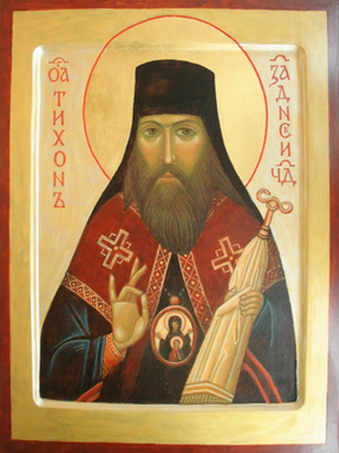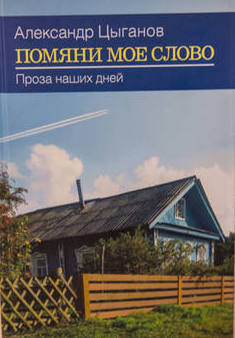К 60-летию Вологодской писательской организации. Зима девяносто третьего (Из романа)
«Беларусь» сначала ходко шёл, но чем дальше дорога уходила в лес, тем больше петляла между сугробами, под которыми таились ямины от вызженного пожаром торфа. В то горячее лето семьдесят третьего года огонь вплотную подошёл к деревне. Верховой пожар упёрся в широкую просеку и ушёл вниз, но, к счастью, торфяник в этом месте закончился, и огонь удалось забить, да и дожди вовремя приспели. С тех пор змеились здесь одни тропы.
Приезжие вырубали лес в стороне от торфяника, но с каждым годом вырубка расширялась, всё ближе придвигалась к колхозному участку. В прошлых веках здесь заготовляли живицу. Многие уцелевшие деревья сохранили на стволах зарубки. Река здесь резко уходила в сторону, и дорога шла вдоль берега, на север, где стояли нетронутые столетние леса. К ним-то и подбирались приезжие рубщики. С востока и запада дремучие дебри повырубили ещё до войны, здесь же, вдоль Смородины, по угорам чудом сохранился вековой клин древнего леса.
Трактор бросало то в одну, то в другую сторону. Свет от фар метался по заснеженному лесу: то утыкался в разлапистые ели, то взлетал и терялся в небе. Кабина задевала ветки деревьев, и на неё сыпался снег, шуршал по железу, разлетаясь веером на сидящих в телеге мужиков. Скоро стало не до смеха. Трактор всё чаще подбрасывало, приходилось хвататься за борт, что не всегда успевали сделать. Когда трактор налетел накрепкийчурак, и Гусев, ударившись щекой о голову Митьки Аникина, взревел от боли:
– Стой, остановись! – заорал благим матом. – Пилы разобьёшь, чёрт этакий.
Скинул рукавицу, попробовал пальцем зуб. Отдышавшись, сплюнул кровяную слюну. Водитель, рыжеватый, крепко сложенный парень, обошёл телегу, постучал ногой по колёсам, заглянул через задний борт:
– Живые?
– Живые. Язык вот прикусил. Куда гонишь? Людей везёшь, не скотину. Того и гляди за борт вылетим. До сих пор искры летят.
Парень заприплясывал, отшагнул в сторону. Зажурчала струйка воды, пробивая снег.
– Кто хочет оправиться, выпрыгивай. Больше не остановлюсь, — насмешливо прищурившись, снова заглянул за борт. Осмотрел сбившихся у переднего борта мужиков. – Нет желающих? Тогда вперёд.
– Кто такой? – Гусев всё ещё трогал зуб, морщился от боли.
– Да Верки Кашиной, недавно отслужил, — Аникин привстал, поправил пилы и тут же ткнулся носом в колени Гусева. Трактор дёрнулся, но пошёл плавно, без рывков, с хрустом давя мёрзлые сучья.
– В темноте и не разобрал. А где Маслов, кто на трелёвочнике будет?
– Сашка Кашин и будет. Федька отпросился, говорит, в район надо. Он до армии трактористом работал, справится.
На расчищенной площадке загнали «Беларусь» в сторону. Гусев послал Белова разжигать костёр. Заготовленный валежник лежал на краю неглубокой впадины. Михаил спустился вниз, утоптал снег, набросал кучей наломанные палки.
– Александр! – Гусев махнул рукой возившемуся у трелёвочника Кашину. – Тряпку смочи солярой, неси сюда. Сейчас враз вспыхнет.
Огонь полыхнул и разом накрыл сучья. Пламя поплясало по дереву и угасло, но всё же зацепилось за тонкие ветки, и они тихо запотрескивали. Языки пламени подобрались к бересте, и она живо принялась, выгибаясь от жара. Всё яростнее огонь облизывал сучья, всё громче трещал костёр. Наконец огонь успокоился, дрова загорелись ровно, выбрасывая жар к столпившимся мужикам.
– Ты, Михаил, помоги Максимычу, нашему повару. Заготовь валежник, лапника натаскай, чтобы сидеть. Осмотрись, – заметив обиду, успокоил. – Ещё намахаешься пилой, не всё сразу, сучья обрубать будешь. Пёхальщиком поработаешь, а потом и пилу в руки возьмёшь.
Мужики разбрелись по делянке, радуясь неглубокому снегу. Настоящих морозов ещё не было. Снег рыхлый, но в лесу, с ночи, прихвачен морозцем, и наст хрустит под ногами, пластами колется, как весенний лёд по закрайке. Заутаптывали у деревьев, проделывая тропки в разные стороны: если что, отскочить успеть. Кашин позвал Белова, сгрузили с телеги фляги с водой. Михаил наполнил ведро и водрузил над костром. Пока вода закипала, Кашин разжёг в другом ведре щепу с промасленным тряпьём, подсунул под двигатель трелёвочника. Пролил радиатор, наблюдая, как горячая вода дымной струйкой бежит на снег. Вскоре тарахтенье заполнило лес, смешиваясь с повизгиванием пил. Михаил смотрел, как вздрагивают деревья, роняют струйки снега – сыпью летит молочная завесь, тихо стелется на землю. Взор приковала большая ель. Внизу, полусогнувшись, Гусев аккуратно врезал пилу в толстый ствол. Плавно вгонял цепь, слегка покачивая пилу, словно ласкал, как ласкают хряка, прежде чем полоснуть по горлу острым ножом. Рядом наготове стоял Аникин, чтобы вовремя упереться шестом в дерево и направить падение в нужную сторону. Знобко дрогнула ель. Шапка снега скользнула с вершины, обрушая с лап снежные комья. Ветки освобождались от тяжести, резко выпрямлялись, словно выстреливали пыльные остатки в воздух. Обвалом покатилась вниз снежная лава. А ветки всё выстреливали и выстреливали, туманом крыли пространство. Среди треска работающих пил беззвучно ухнул снег на землю. Рассеялась пелена, и перед Беловым предстала огромная ель: вечно зелёная, раскинувшая разлапистые ветки во все стороны. Вот-вот выйдет из-за неё Дед Мороз и громовым голосом поприветствует пришедших в его родные пенаты. Слегка наклонилась ель и замерла.И вдруг словно вздохнула, и пошла валиться, с грохотом подминая под себя подъельник, освобождая небесную даль, где над лесом приподнималось солнце – мутно сияло, тянуло лучи к падающим деревьям, освобождающим насиженные места. Взрывной волной метнулась пороша, снежной моросью обдала лица вальщиков.
– Видал, какая великанша?! А как завалил, аккуратно легла, – Гусев рассмеялся, перекидывая «Дружбу» с одной руки на другую. Оттеснил подошедшего Белова. – Дай, я нижние ветки отсеку.
Взревела пила, и Леонид, взобравшись на ствол, ловко стал срезать сучья. Аникин стоял, опёршись о шест. На конце высохшей тычины поблескивала железная вилка. Между рожками застрял кусочек еловой коры. Белов с трудом оторвал взгляд от тускнеющей блёстки.
– Ты, Митяй, как копьеносец.
Не уловив насмешку, Аникин ответил серьёзно:
– Лес, Миша, шуток не любит. Здесь как на войне, зазеваешься, голову оставишь. Сам знаешь, на валке за долгие годы не одна женщина вдовой стала. – Хватит болтать, тащи лапник к костру.
Гусев продрался сквозь ветки и, проваливаясь по колено, заспешил к натоптанному месту у следующего дерева.
К обеду выделенный участок изрядно полысел. Рубщики сучьев не успевали, и вскоре вальщики присоединились к ним. Нужно было подготовить работу для тральщика – очистить стволов как можно больше. Гусаров вначале с сомнением смотрел на молодого Кашина, но быстро убедился в ловкости парня. Александр, как опытный лесоруб, прошёлся по боковому валку, похвалил ровно наваленный лес, чем привёл Гусева в изумление:
– Он меня ещё хвалить будет! Да я с закрытыми глазами вершину на просеку положу.
Александр добродушно хлопал рыжеватыми ресницами и примирительно улыбался. Вначале отказался работать без чокеровщика, но Гусаров уговорил:
– Завтра найдём помощника, сегодня без запарки, сам справишься.
Кашин толкал трелёвочник к поваленным деревьям, выпрыгивал из кабины и набрасывал трос на вершину. Царскую ель увёз одну. С трудом заволок на щит и медленно, чтобы не сорвать трос, тащил к самодельной эстакаде – неглубокой траншее метров тридцать длиной.
У костра кашеварил крепкий ещё старик Дюков Павел Максимович из Сулоихи. Он всегда напрашивался на валку, особенно любил дальние лесосеки, чтобы с ночёвкой, в наспех срубленной избушке. Что удивительно – никогда не мёрз. И сейчас, в распахнутой фуфайке, с широко расстёгнутым воротом, ловко нарезал картошка в котел. Из-под крышки вырывался запах варёного мяса. Вода медленно бурлила, не выплёскивалась за край. Всю площадку вокруг костра обтоптал, разложил лапник толстым слоем. За добросовестность мужики его уважали, охотно брали поваром. Варилось только первое. Нахлебаются мужики, кипяточку в кружки нальют, заварки, каждый свою, сыпанут и снова за работу. Павел Максимович старательно сполоснёт за всеми миски, протрёт чистой тряпицей и по сумкам разложит, никогда не перепутает.
К средине дня Белов изрядно устал. В полушубке неуклюже переползал через заледенелые ветки,мешкался в еловых лапах. Виктор Иванович предупреждал, но Татьяна настояла, и вот потел Михаил под насмешливым взглядом Лёньки Гусева. Пробовал расстегнуться, но ещё больше в полах путался. Иззябшие пальцы с трудом удерживали топор. Присел на лесину, и стал смотреть, как трелёвочник вытаскивает на просеку четыре берёзы. Одна застряла и её стало выгибать в дугу. Не понимая опасности, Михаил продолжал смотреть на гнущуюся берёзу.Он видел, как морщилась заледенелая кора на изгибе, как дерево всё больше походило на натянутый лук, и вдруг она лопнула. Прежде чем услышать свист рядом с головой, он видел, как медленно расщепляется ствол, лучиной щеперится место слома. И тут же обдало морозным воздухом, опалило щеку. Световой поток яркой вспышкой вспыхнул, стеганул по сознанию. Как черту провёл между бытиём и небытиём. Михаил даже не понял, что просвистело рядом с головой. Тупо продолжал смотреть на сломанную берёзу, затем повернулся и также тупо посмотрел на берёзовый, метра в полтора, обломок, торчащий из снега за спиной. Трактор свободно рыкнул и неспеша пополз по просеке. И только сейчас до Белова дошло, как близка была его смерть. Белов осмотрелся. Ничто в мире не изменилось. Никто не заметил происшествия. День разгорался. Солнце поднялось над лесом, катилось в мутной поволоке навстречу голубеющему небосклону. Лёгкий морозец окреп, предвещал ясную погоду. Михаил продолжал машинально отсекать ветки, сам же непроизвольно думал о случившемся. Яркая вспышка сохранилась в памяти, словно из-за предела явилась, рубеж наметила. Только что он мог исчезнуть с этого света. Искорёженное тело здесь, а он, его сущность, в ином, неподвластном ему мире. Казалось, сама природа предупредила; есть грань за которую не заглядывай. У неживой природы свои законы. Здесь твоя сила, там – нет твоей воли. Растерянность проходила. Белов всё ожесточённей взмахивал топором. Страха не было. Где-то существовала жизнь, иная, но жизнь, предназначенная для души, но не тела. Всё внутри протестовало. Решимость заглянуть за грань и одновременно остаться на этой стороне, только окрепла. Он не хотел ощущать себя невольником времени, он хотел быть вне его; но не пучком энергии, а человеком. Он хотел быть там как здесь.
Громкий лязг наполнил лес. Дюков колотил железным прутом по пустому ведру, сзывая на обед. Гусаров пошёл первый, за ним потянулись остальные. По заведённому порядку в лесу беспрекословно слушались старшего. Прореженный участок, истоптанный вдоль и поперёк, походил на поле боя: взрытый снег чернел от прутьев, подмятого подроста. Как ни старались аккуратно валить, но всё же молодого леса наломали. Увидев, как Гусаров огорчённо осматривается, успокоили:
– Василий, подготовим делянку к сдаче, не впервой. Сожгём всё лишнее, трактором закатаем, леснику плеснём и примет за милую душу.
Гусаров только огорчённо вздыхал. Поманил пальцем Кашина:
– Не видишь стволов? Почему пропускаешь, лень с просеки съехать?
– Василий Александрович, посмотри, какие пни торчат. Я же вмиг гусеницу сорву. Подрежьте, и всё выволоку.
Крыть было нечем, Гусаров только крякнул. У костра не сразу повалились на лапник, постояли кружком, вытянув руки к огню. Кто не поленился, принёс спиленный пенёк и восседал на нём, пристроив на коленях миску. Гусев отобрал половник у Дюкова, и сам налил себе, вытащив из котла кусок мяса побольше.
– Лёнька, другим оставь! – мужики запротягивали миски Гусеву, но он уже вернул половник.
Павел Максимович суетился, выкладывал на блюдо парную телятину.
– Всем хватит, ешьте, работнички, – поддевал черпаком со дна гущу и ловко разливал в подставленную посуду.
Первые минуты ели молча. Насытившись, толстый, рыхловатый Копотилов с Раменья зашмыгал носом, заоглядывался, к кому прицепиться. Остановил взгляд на Митьке, недавно женившемся.
– Вот ты, в лесу, как бездомная собака шатаешься, а жена дома. А если сосед в гости придёт? Знают, что ты из леса не нагрянешь, неожиданности не будет. Вот каково тебе такая мысль? – Парень никак не среагировал, не спеша продолжал есть. Копотилов усилил давление. – За молодухой глаз да глаз нужен. Она сейчас в охотку входит, ей только подавай, всё мало.
Мужики притихли, ожидая развязки. Митька вздохнул, с сожалением осмотрел Копотилова:
– Ишь, как тебя ломает. Сразу видно, бегала от тебя жена, вся голова шишками проросла.
Все рассмеялись. Копотилов громче всех:
– Эх, Митяй, комолый я, безрогий. Мне за всю жизнь никто не изменил. Не было у меня жены и нет, так перебиваюсь. Охочих хватает. А ты ухо держи востро. Жена, как ветер, может подолом весь дом растрясти.
– Ты, Семёныч, язычок попридержи. Не каждая шутка забавой кончается. – Ишь, горячь. Остынь. Я, Митяй, человек весёлый. Если обидел, прости. Давай, Максимыч, плесни кипяточку.
Остальные также, не вставая, запротягивали кружки. У Белова от разговора всё нутро стянуло. Если бы такое ему сказали, весь суп на голову Копотилова выплеснул. Мужики же, привычные к таким подковыркам, только посмеялись.
С обеда лес снова наполнился шумом: трещали пилы, ухали о землю падающие деревья. В прореженном пространстве хорошо просматривались заснеженные арки – согнутые под тяжестью снега тонкоствольные берёзки. Они походили на свадебные дуги, приглашая пройтись под ними и навеки соединиться для общей жизни. Красотой и покоем веяло от сводчатых переходов. Пройди под ними и исчезнет из души раздражение, и деревья, как помолвленные с человеком, забудут обиды, и исчезнет зло, и будет всеобщим духовное зрение, которое объединит живое и неживое. Потому что нет неживой материи, есть только жизнь, вечная для всех.
Только-только заискрился снег, но уже лёгкие, едва заметные сумерки пригасили блёстки. Солнце угадывалось за лесом, простреливало небо светлой полосой. Уши к вечеру стало прихватывать, и Белов распустил ушанку. Первый заглушил пилу Гусаров, за ним заглохли и другие пилы. Дюков не затаптывал костёр, ждал, когда выкурят у огня по последней сигарете и полезут в тележку: забьются к переднему борту, прижимаясь друг к дружке, пытаясь сохранить тепло. Ехали обратно молча, смотрели на небо, присыпанное мелкими звёздочками. Лес как-то разом потемнел. Дальние деревья стали терять очертания, сливаясь в конце дороги в сплошную черноту.
Ночью Белову снилась вспышка света. Яркое яростное пятно тревожило дух, возбуждало, не давая покоя. Михаил вздрагивал во сне, беспокойно ворочался. Прижимался к Татьяне и затихал на мгновение, но вновь выпрастывал руки из-под одеяла, которым заботливо укрывала Татьяна. Пятно пульсировало, водопадом изливая свет внутри себя. Оно требовало действия, взывало к осмыслению того, что таилось в нём и в той темноте, откуда оно зарождалось. И словно вопреки, из той же темноты, выплывал не уступающий по силе другой свет, но спокойный, умиротворяющий. Он не был рождён, как тот, яростный. Он словно существовал всегда, был изначально, и был той самой темнотой откуда появлялся беспокоящий душу свет. Откуда-то возникла комната Волотова. Самого Сергея Петровича не было. Михаил одиноко стоял, боясь пошевелиться. На него смотрели с иконы ясно-голубые глаза. Взгляд Михаила тонул в изливающейся голубизне, и в этой небесной синеве плыли два световых потока. Они не противостояли друг другу. Но без каждого из них мир был не полон.
Утром Михаил проснулся на удивление хорошо отдохнувшим. На кухне, ссутулившись, плескался под рукомойником Виктор Иванович. Уступил место, размашисто вытирая суховатую грудь и длинные, сухопарые руки. С лёгкой улыбкой смотрел на зятя. Вечером не удалось поговорить. Распалённый морозом, Михаил не долго хорохорился, ещё во время ужина сонно заморгал. Кратко доложил об ударно проделанной работе и был уведён Татьяной спать. Оглядывая мускулистые, уже по-мужицки наливающиеся плечи, спросил у Михаила:
– Как вчерашнее, руки не отвалились?
– Поначалу занемели, а потом ничего, отпустило.
Михаил пожамкал ладонью, сжимая и разжимая кулак. На плите скворчала на большой сковороде яичница. Вышла Татьяна, прислонилась к косяку, но тут же вернулась к завозившейся в кроватке дочери. Плотно позавтракав, Михаил сунул в карман фуфайки пакет с заваркой и хлебом. Замешкался у порога, натягивая валенки на шерстяные носки ручной вязки. Поцеловал вновь вышедшую Татьяну. Выглянула с кухни Вера Петровна. Почувствовала неловкость Михаила, ушла обратно. Татьяна смотрела долгим немигающим взглядом, словно пыталась понять ночное беспокойство мужа. Приоткрытый рот мерно выталкивает дыхание. Доносит до Михаила давнее, волнующее, молочно-парное…
– Пошёл я…
Прикрывая дверь, уже из сеней, ловит ласкающий, тёплый взгляд.
Улица встретила непроглядной темнотой и снежным скрипом. Светились кухонные окна Гусева и Гусарова, тени оконных рам кривились на сугробах под стенами. Ветерок ожёг лицо. Ноги заспотыкались на заледенелых колдобинах. Пришлось мельчить шаг, пойти по наезженной колее; хоть и скользко, но твёрдо. Над головой стояла такая же темень, что и под ногами. Вдалеке горела у правления лампочка, доносились приглушённые голоса. Кто-то хрипловато рассмеялся. Тарахтел «Беларусь». Белов ускорил шаг, подозревая, что все уже собрались и ждут его.
В Сулоихе подобрали Дюкова и подошедшего с Раменья Копотилова. К этому времени блёклый свет процедился из-под облаков. Не осветил землю, но настроение поднял, и мороз как-будто ослаб. Прямился, едва прорисованный во мгле, дымный столб. Деревня стояла на отшибе от основной дороги. Из двадцати домов жилых осталось меньше половины, да и в них одни пенсионеры. В конце восьмидесятых молодёжь резко стала сниматься с родных мест, старалась укрепиться в городах. Всё вспаханное засевалось, но не всё успевали убирать – мелели бригады от безлюдья.
Исчезли за поворотом освеченные фарами окна крайнего дома и сразу потемнело – въехали в лес. «Беларусь» заболтало из стороны в сторону. Трактор, фыркнув, сбросил ход. Ветер стих, застрял в ельнике. Запрыгали над головой верхушки деревьев. Нетронутый следами снег стелился по обе стороны от дороги. Вспугнутый приезжими лесорубами зверь ушёл дальше в тайгу.
Гусев вдавился в борт, затолкал локтём Михаила:
– Полушубок на фуфайку сменил?
Михаил не ответил, полуотвернулся от весёлого Лёнькиного лица. Никто не поддержал разговора. Все сбились к переднему борту. Громыхали в ногах коровьи цепи, брошенные в телегу для стяжки стоек в тракторных санях. Лиц не было видно, только из-под приподнятых воротников вырывались струйки пара. Лёгкий снежок, сдуваемый встречным потоком воздуха, слетал с кабины, сыпался на бригаду. Крыл белой порошей стеснившихся друг к дружке людей. Из плотной массы краснел огонёк сигареты: то ярко разгорался, то тускнел. Вскоре совсем рассвело. Зашевелились, охлапывая снег. «Беларусь» внезапно дёрнулся и остановился. Непривычную тишину разорвал весёлый голос Кашина:
– Приехали, лесорубы. Освобождай телегу.
Там, где недавно сосны и ели упирались в небо, сквозило пустым пространством. Только уцелевший подлесок клочьями возвышался над взрытым, словно плугом вспаханным снегом. Вершинник, обрубленные сучья, пни покрывали образовавшееся поле на месте ещё вчера шумевшей рощи. Распиленные и рассортированные ели, сосны, берёзы с осиной штабелями возвышались над траншеей. Не успели вальщики взяться за пилы, как с шумом на просеку въехали друг за другом два трактора. Передний сразу, не останавливаясь, вогнал сани в траншею. Ругаясь, на встречу бежал Гусаров:
– Леший, а стойки, что же нам корячиться?
Тракторист, не глуша двигатель, приоткрыл дверцу, оскалил зубы в улыбке:
– Поставите, ребята, не в первой…
Гусаров отрядил на погрузку троих покрепче мужиков. Поколебавшись, отправил к ним и Белова. Сам принялся помогать устанавливать, вырубленные из вершинника, стойки. Приехавшие трактористы стояли в сторонке, рассматривали наваленные деревья.
– Смотри, три семёрки из ствола. Я уж думал таких и не бывает. У приезжих всё больше две шестёрки. Недаром к Смородине выворачивают. Молодец председатель, как и выбил этот участок?
Гусаров отмахнулся, мол, и не говори, пришлось побегать. Зло процедил:
– Свой лес, а не выпросишь.
Копотилов сноровисто вколотил стойки на вторых санях. Белов помогал, придерживал крепкие брёвна.
– А почему с одной стороны?
– Чудак, а грузить? Не через стойки же кидать.
Кашин подогнал трелёвочник, ножом упёрся в длинномерки.
– Стой, мать твою за ногу…– Копотилов подбежал к зашевелившемуся штабелю, выбил клинья из-под нижних брёвен. Ловко отскочил в сторону. – Давай!
Кашин недовольно качнул головой, аккуратно надавил. Брёвна начали скатываться в сани, упирались в стойки, ложились друг на друга. По знаку Копотиловатрелёвочник сдал назад.
– Ну, мужики, включаем пердячий пар.
Вчетвером попытались накатывать еловые «семёрки», но быстро выдохлись. Пришлось звать на подмогу. Приехавшие трактористы только посмеивались:
– Давай, ребятушки, ухнем… сама пойдёт… сама пойдёт…
С трудом выровняли ряды, забили стойки с другой стороны. Стянули коровьими цепями. По лагам накатили сверху ещё ряд, прижали цепи.
– Ну, с Богом, освобождай место.
Трактор не спеша выдернул из траншеи сани, пополз по волоку. Вторые сани загрузили быстрее. Перекурили у костра. Подошли и вальщики. Гусаров не дал долго прохлаждаться:
– С обеда приедут. Трелёвочник опять отвлекут, надо поднажать.
– Думаешь, обернутся ?
– Дорога ровная, должны успеть две ходки сделать, – и словно благословил. – Лес нас поддержит, спасёт…
Гусаров вышел на просеку. Проводил долгим взглядом уползающий трактор. Дорогу проложили от деревни до участка по торной тропинке, в обход завалов гниющего валежника, торфяных ям и заболоченных мест. В этом направлении не было больших подъёмов и спусков, и трактор ходко тянул гружёные сани. Отполированные полозья – два мощных сосновых бревна с затёсанными концами – без рывков, натягом катились по проложенной колее. На повороте трактор замедлил ход, и было видно, как тракторист вывернул голову, оглядывая брёвна – не тронулись ли с места. Мёрзлые стволы, как налимы, в любой момент от тряска могут вперёд скользнуть. Не успеешь моргнуть, как бревно в кабине окажется, стёкла и железо только взвизгнут. А на хорошем нырке, не дай Бог, нижний ряд заденет землю и весь воз на дорогу сдёрнется. Трактор скрылся в кустарнике, только тарахтенье ещё долго доносилось из перелеска.
Заработали пилы, с визгом вцепились зубьями в древесину. Опилки плотной струёй забились о ноги вальщиков. Снова задрожали верхушки деревьев, сбрасывали снег и валились по обеим сторонам пасеки. Белов сноровисто махал топором, не крошил, как вчера, щепу, втыкал лезвие в одну точку, и ветка отсекалась за два-три удара. Тонкий надсадный звук беспокоил, не давал сосредоточиться на чём-то важном. Мысль путалась, обрывалась и вновь билась о невидимую преграду. Ещё вчера это место дышало красотой и покоем. И как затих лес, когда наполнился человеческими голосами. Сразу ли почувствовал опасность или всё же надеялся на единение добра, которое заложено в природе и человеке. Вопрос: подвластна ли природа или равновелика человеку? для Михаила не стоял. Он верил, что человек существует не для усмирения, а гармонии мира.
С ободранными боками стояли уцелевшие тонконогие сосёнки и ели. Смирились перед человеком. Но вчера кажущаяся кротость вдруг сменилась «выстрелом» – огрызнулась природа на зло, выплеснула грозную затаённую мощь.
Резко пахнуло угаром. Дюков навалил на огонь лапник и тот трещал, выбрасывал густой едкий дым. Порыв ветра погнал серое облако вдаль, закрутил в еловых зарослях. Казалось, там выплясывает нечто, похожее на ломаную человеческую фигуру. Странный и одновременно завораживающий танец то вырывался на открытое пространство, то снова забивался в лапник, оставляя за собой рваные космы. Жутью веяло от того танца, как-будто нечто закруживает, вбирает в себя пространство, хочет смотать в одну точку и поглотить его. И нужно было защитить сотворённое, но как это сделать Михаил не знал.
Белов дует на озябшие пальцы, следит за танцем. Отвлекается на крик Гусева. Снег изрыт многочисленными вытоптанными тропинками. Михаил пробирается вглубь участка, где уже навалены деревья, и Гусев недовольно смотрит на Белова, кивает головой на трелёвочник, у которого стоит помощник и ждёт, когда можно будет накинуть чокеры на подготовленные стволы. Белов бьёт топором по сучьям. Лезвие отскакивает от мёрзлых веток сбивая кору. Топорище проворачивается в ладонях, и Михаил едва не роняет топор. Приноравливается и снова замахивается. Теперь лезвие идёт точно в цель, выворачивает желтоватый сучок наружу. Работа затягивает, и Белов, забыв о наваждении, ритмично машет топором. Взревел трелёвочник, утягивая на кряжовку зачищенные деревья. По краю валка пробирается Дюков, затаскивает в отстроенный сарай чурбаки, расставляет вдоль грубо сколоченного стола. Время близится к обеду, и над костром вовсю парит котёл, расточает запах свежевываренного мяса.
Дальний конец просеки тонул в мглистой белизне. Кудрявились в инее верхушки деревьев, образуя на фоне неба бесконечный резной узор. Солнце к обеду разогнало марево, выкатилось над лесом по-летнему. Из неясно очерченного сгустка превратилось в ярко-жёлтый диск. Михаил щурился на свет, охлапывал меховыми рукавицами налипший к брюкам сор. По снежным тропинкам мужики потянулись к костру. В ясный день в сарае без печки никто не захотел обедать. Все пристроились на вчерашнем лапнике поближе к костру. Встряхнули заснеженные ветки и полулёжа курили, молча разглядывая огонь. Боевое настроение сменилось безразличием. Вечером пришла новость – леспромхоз не принимает древесину, быстрых денег не жди. Гусаров поразминал заскорузлые от мороза рукавицы, подтолкнул к огню. Растолкал языком ссохшие губы, приободрил мужиков:
– Заходил я к председателю. Решили гнать машины в областной центр, это дольше, но можно больше выиграть. В леспромхозе куб леса восемьсот рублей, а у перекупщиков – тысяча и больше. Алексеич звонил на Украину, там тоже лес нужен, но за бартер: сахар, масло, запчасти. Даже топливом готовы поделиться.
Копотилов пошевелил прутом в костре, криво усмехнулся:
– Украина… расхлебенили рот. Пошлёшь вагоны с лесом, а обратно – шишь. В такой неразберихе концов не сыщешь.
Гусаров не обиделся, только вздохнул. В разговор вмешался Дюков:
– Деньги нужны. У нас хоть нерегулярно, но пенсия на двоих шесть тысяч, а и то жить не просто. Хозяйка на днях купила десяток яичек, а одно оказалось гнилое, дак заревела даже. Я ей, дура, нашла о чём плакать. А каково молодым с дитями, им то как? Сразу успокоилась.
Гусев молча тянул сигарету, сдержанно ухмылялся:
– Что-то вы разохотились, на пять-то тысяч кубов.
– Где пять, там и семь, не знаешь что ли? Дальше лес стоит без подлеска, частокол великанский, без просвета стоят. За реку уйдём там дебри неохватные, только успевай возить.
Мужики оживились, заиграла в глазах надежда. Мяли припухлыми, пожелтевшими от никотина пальцами дешёвые сигареты. Пустошь перед глазами, лишь земля стелилась зелёным лапником, крылась кужлявой красотой. Дюков взболтал варево черпаком, постучал по кромке котла:
– Ну, кто первый?
Все посмотрели на Гусева, но тот равнодушно ковырял пальцем зелёные иголки, не торопился опередить. Перевёрнутая миска лежала рядом. Поднял голову, увидел смешливое ожидание, сам улыбнулся. Гася улыбку, серьёзно заметил:
– Павел Максимович, старшой оголодал, ему первому. Смотри, как посуду тянет.
Гусаров действительно держал блюдо на вытянутой руке. Искоса глянул на Леонида, но ничего не сказал. Дюков уже наваливал ему куски тёплой говядины.
– Ишь, не улыбнётся. Ты, Василий, не думай, мы с Максимычем куски мяса считаем и не дадим утаить ни ребра, ни копыта от того телёночка, что председатель тебе на общество отвалил.
– Что ты, Лёнька, городишь. Александрович, не слушай его, по-пустому скалится.
Мяса на лесозаготовки председатель никогда не жалел. Закалывал молодых крепких телят без сожаления, лишь бы работа шла. Поэтому на глупую шутку никто не обратил внимания. Гусаров потемнел лицом, но тоже не среагировал. Поглядывал на Аникина. Дмитрий поскучнел от разговора о деньгах. Ел вяло, через силу. Когда разливали кипяток, как бы в воздух, ни для кого, заметил:
– В месяц на молоко и хлеб нужно две тысячи, я зарабатываю четыре и то не каждый месяц, жена сидит с ребёнком, а шубка зимняя, на годовалую, стоит шесть тысяч. И как жить?
– Придётся потерпеть этот период…
– Да сколько же периодов терпеть? То один, то другой… – Копотилов в сердцах толкнул от себя кружку. Обжёгшись, задул на пальцы. – Вот ты, Митяй, партию ругал, а на ней всё держалось. Когда Семёнов секретарил, он решал вопросов не меньше, чем председатель. С утра по бригадам мотался. А когда по просьбам трудящихся уменьшили партийные взносы, пенсионеров вообще от взносов освободили, от государства помощь убрали и денег у партии не стало. В результате секретарей оставили без зарплаты. Помнишь, как все зубоскалили, когда Семёнов вернулся в агрономы, а потом вообще уехал. А чем обернулось, лучше стало?
Потрескивал огонь, кидал искры в холодный воздух. Затекли, охолодели бока и все как-то разом зашевелились, привстали на коленки. Лица, разгорячённые огнём, разрумянились, разгладились от тепла. Растаявший снег повис каплями на сдвинутых на затылок шапках. Гусаров, обеспокоенный, как бы у бригады совсем руки не опустились, широко улыбнулся:
– Помните, как Бабаев на огороде партбилет жёг?
Дед Василий, узнав о запрете на компартию, решил, что грядут репрессии почище тридцатых годов. Не сказав жене ни слова, забился в дальний угол огорода и там, отрывая листочки, сжёг документ, растирая пепел, чтобы и следов не осталось. Но на его беду подсмотрела это действо ребятня и разнесла по деревне. Долго кричала Оксинья на мужа:
– Старый дурак, кому ты, пенсионер, нужен?!
На что дед Василий вздыхал и пришёптывал: «Бережёного Бог бережёт».
От громкого смеха, невесть откуда взявшаяся стайка синиц, пылью метнулась в заросли. Белов увидел только взметнувшееся белое облачко сыпью падающего снега. Снова взвизгнули пилы, затарахтел трелёвочник, накрыв дальний рык возвращающихся тракторов. Проваливаясь по колено, Михаил подбирался к лежащей сосне, раскинувшей корявые, словно изломанные ветки. Путь перегородила нагнувшаяся лесина. Михаил смахнул обухом шапку снега, и берёза со скрипом выпрямилась, плеснула перед глазами мёрзлыми ветками. Солнце заметно склонилось, холодной синевой отливалось небо. Всё громче гремели приближающиеся трактора. Торопясь до их прихода окарнать дерево, Михаил взобрался на комель и с хрустом вонзил топор в толстый наплыв вокруг сучка.
Как Гусаров и предполагал, трактора успели обернуться, и после обеда отправили ещё под сорок кубов леса. Белов прислушивался к тракторнуму шуму, стуку топоров, хрясту падающих деревьев. Ширилось пространство, расстилалось заснеженным взрытым полем, заваленным вершинником – скоро будет неохватно глазу голое место, загуляет ветер, заметёт позёмкой равнину, лишь далеко по закраинам завиднеется лесок; вольно зрению да тесно душе. Ярко осветит солнышко окрестность, а под снегом вповалку древесное трупьё лежит. Весной ручьи сбегут и откроется взору чёрный валежник – ни пройти, ни проехать. Было краснолесье, а станет чернолесье – обгорелый подрост, обугленные пни, чапыжник да разсоха. Прольёт солнце живоносный свет на место, где когда-то заветная роща стояла, а на том месте мертвенная тишина – не пожаром выжжена, человеком вырублена. Не для того, чтобы земле на долгие века жизнь дать, зерно посеять, а для собственного удовлетворения нужд. Изгадили, чтобы один раз сытно поесть, а дальше – трава не расти. Леса много, можно не один год пакостить. А без леса и человек исчахнет. Затуманится разум, мраком душа укроется, стужей сердце охватится – исчезнет любовь, один расчёт останется. Некому будет в заповедных местах вещее слово сказать. Прервётся связь между землёй и небом, ледяным панцырем жизнь укроется, и там, где от слова началось, без слова всё и закончится. Но пока только тень надвинулась от тучи приближающейся. Льёт лучи солнце, греет землю, не даёт остыть душе человеческой, забыть свой род, свою родину. Собственным светом тучу сдерживает, животворным покровом укрывает, напоминает, что от рода всё началось, от праотцов, что были народом, а не животным скопищем. Здесь не просто лес, священная роща стояла. Пока церковь не поставили, пели молитвы солнцу ясному, кланялись звёздам – свечкам небесным, славили небо-батюшку, землю-матушку, и был род для людей подножием крепким, на том подножии Христос стоял… Было да быльём поросло, скрылся от глаз людских древний Китеж-град.
Неуютно Белову, маята на сердце. Хочется оторвать взгляд от взрытого снега и смотреть в голубеющее, но уже с густеющими по горизонту снеговыми облаками, небо. Тёмно-серые облака сбивались в кучу, грудились над лесом. Снизу наплывал дымный тягучий след, похожий на брошенный посох. Облака медленно вздувались, вытягивались в фигуру, напоминающую древнего Бога у пустеющего престола. Невольно подумалось: «Сейчас поднимет оброненный жезл да как вдарит в землю по людишкам: не балуйте, помните от кого пошли, чей образ носите». Солнце заплывало в облачность, топило свет, окрашивая края пунцовыми прядками. Усиливался ветер, гнал мелкий мусор по просеке. Запорхали снежинки, заласкали лицо, всё больше увеличиваясь, и наконец повалили хлопьями, застилая воздух белой пеленой. Неожиданно смятение накрыло лицо Белова. Ещё ничего не услышав, голова выворачивалась сама по себе, выплывала на край глаза неестественно застывшая сосна. В неё, упёршись шестом, выкатив глаза, без шапки, налегал всем телом Аникин. Приоткрытый рот косился на сторону и оттуда тягуче-тяжко хрипело:
– Ми-и-ишка-а…
В подпиле дерева торчала пила, под ней, полулёжа, кроша руками снег, пытался отползти Гусев. Не осознавая случившееся, Белов метнулся к сосне, в два прыжка преодолел расстояние, и с силой навалился на шест, пытаясь дать наклон дереву на просеку. Сосна стояла вертикально, словно раздумывала куда ей повалиться. Порыв ветра ослаб, и она нехотя качнулась от шеста.
– Пошла-а-а… – также кривя рот, пуская слюну по губам, захрипел Аникин.
Дерево сначала медленно, затем всё быстрее, роняя снежную пыль, обрушилось на просеку.
– Ветер, зараза, – поднимая упавшую пилу, выругался Гусев, – чуть не зашибло. Как пилу зажало, я – в сторону, голос пропал, я Митьке чуть не шёпотом – бросай…
– А я вижу у Лёньки нога подвернулась, как бросать, я давлю, а она как вкопанная… хорошо Мишка подскочил… – Аникин возбуждённо подёргивал плечами, глаза радостно сверкали. Он переводил взгляд с лежащей сосны на Гусева, на Белова и снова на сосну. И всё повторял. – Я давлю, а она как вкопанная…
Густела облачность, волной катилась по небосклону. Изредка в прорехи выбивался слабый луч, сползал по наплывающим облакам, выбеливал дымную тучу, куполом вздувающуюся над лесом. Всё это клубилось и неслось по небу, плотно закрывая последние алые отблески. В затихшем воздухе отвесно сыпались белые хлопья. Бригада потянулась к «Белорусу». Лица у всех от мороза зарделись до коричневости, словно подпалинами щёки прихватило; распаренные, они походили друг на друга. Шапками заобколачивали с себя снег. Кто-то полосовал пилой только что привезённую пачку хлыстов. Кашин отогнал трелёвочник в сторону, и в распахнутой фуфайке шёл сквозь снежную занавесь. Мутновато белела просека, ближним концом утыкалась в кусты, за которыми не проглядывалась дорога, лишь слабый завиток сугробов метил невидимый тракторный след, дальний её конец пропадал в пороше и там, за снегопадом, таилась бесконечность. В ней тонула неясная полоска леса – дверь в неведомую страну. Сыплет снег, и в этой круговерти проступает продолговатое белоснежное чело, спадают на плечи русые волосы и чудным светом сияют синие глаза. Призрачное лицо едва угадывается в метели. Уголки губ скорбно сжаты. В них затаилась усмешка и немой вопрос: чем мы провинились, что вы забыли о нас, о нашей истории, о нашей вере…
Тихо в деревне. Разгораются звёзды на небе. Льёт сверху сумрачный свет луна. Серебрятся крыши. Под огромным небом рассыпался лес во все стороны, нет ему ни конца, ни края. Мерцает Млечный путь, разбрасывает вокруг себя бесчисленные созвездья, а под ним рябью искрятся снеговые шапки на деревьях, и всё это вращается в бездонном космосе. Спит деревня, жалобится чёрными окнами в пустоту. Иногда на миг блеснёт лунный отсвет в стекле, покажется что и там, в заоконной тьме звезда притаилась, и там необъятный космос. Куда ни глянь – пусто и холодно. Безучастно мерцают звёзды и скучен лунный лик. На окраине теплится на столбе лампочка, качается под жестяным кружком, и внизу, по снегу, раскачиваются жёлтые круги, словно солнышко из-под туч. И в этой тишине чуть слышно плескалась песня; далеко-далеко, в Нефедьеве, кто-то пел не жалея голоса, даже не пел, а тянул тоскливо-безысходные слова о неудавшейся жизни. Не разобрать слов, одна мелодия тянется сквозь темноту, и та скорее угадывается, чем слышится. Некому подхватить её и поднять до небес неизбывную печаль о людской судьбе. И лишь воздух отзывается на звуки, вибрирует в такт напеву и своим лёгким дыханием разносит по миру возникшую созвучность природы и человека.
Долог зимний сон. Притих лес. Настороженно скрипнет сосна, да с лёгким шорохом скользнёт снег с еловых лап и – снова тишина. Не пробуют птахи голос в морозную рань. Прямо через поле тянется тракторный след, ведёт вокруг пилорамы к бывшему фельдшерскому пункту. Между ним и горушкой с ободранным боком высятся штабеля брёвен. К ним приткнулись оставленные с вечера два трактора с волокушами; заиндевелые, припорошенные снежком, походили на сказочных богатырей, притаившихся за древесной стеной, – когда-то последним убежищем от вражьих набегов, а ныне приготовляемой для продажи, чтобы, быть может, в последний раз поддержать народ в своём несчастье, и – гуляйте люди, радуйтесь свободе, не замечая, как духовной крепи становится всё меньше, а пустоты вокруг всё больше.
Тревожно спит Белов. Снится поределая роща, а в прсвете выплывает призрачное лицо и кажется ему, что это сам Род пожаловал – прародитель рода, с которого и Белов пошёл. Лицо знакомое, с изумлением шепчет Михаил: »Я тебя на иконе видел, ты на Христа похож». И слышит в ответ: «Я и есть Христос Род твой, вера твоя – православная. Без нас с тобой не будет народа…» Голос глохнет, истаивает сон. Михаил некоторое время лежит в полусне, прислушивается к звукам, доносящимся с кухни. Вроде на минуту глаза прикрыл, а уже и ночь прошла.
Ночная тоска развеялась как только вышел на улицу. У конторы слышались голоса, фары «Беларуса» освещали копошившиеся фигуры. Все уже расселись, когда подошёл Белов. Увидев в телеге Кашина, заглянул в кабину. На сиденье ёрзал Федька Маслов.
– Осваиваю законное место. Давай, не задерживай. Скоро петухи закричат, а мы не тронулись.
После вчерашней вьюги роща выглядела просветлевшей, обновлённой свежим снежком. Далеко простиралась белыми островками между наваленными в кучи сучьями и вершинником. Снежная пустынь отодвинула рощу вдаль и освободившееся пространство не радовало, как не радовали и высившиеся груды брёвен у эстакады. Белов брёл через кустарник, перешагивал лапник, высоко выбрасывая ноги, пока его не окликнул Гусев. Он стоял на просеке держа в руках подготовленную к работе пилу. «Дружба», уже прогретая, проревелась на пуске и теперь тихо тарахтела, вздрагивала в крепких, охваченных морозцем, ладонях. Меховые, обшитые кожей рукавицы торчали за поясом. Михаил долго утаптывал снег у дерева, выбранного Гусевым, вскидывал голову, по-хозяйски оценивая с какого бока начать. Ствол у сосны был ровный, с равномерно раскидистой во все стороны кроной. Такое дерево валить одно удовольствие – ляжет куда надо и толкать не придётся. Утоптал до самого комля, откуда корни уходили в землю. Пила оттягивала руку, с непривычки казалась тяжёлой. Зубья не сразу вошли в закаменевшую древесину, рубили воздух, наконец пальцы почувствовали, как цепь углубилась в плоть, звук изменился, завыл и тонкой струйкой брызнули опилки, потекли струёй. Белов, как учили, аккуратно покачивал пилу. Гусев с Аникиным не мешали советами, лишь зорко следили за движениями, готовые прийти на помощь. Выпиленный клин шевельнулся, и Михаил выдернул цепь.
– Не так резко, – Леонид вытолкнул пальцем кусок дерева и кивком головы разрешил продолжить.
Михаил перешёл на другую сторону и, уже по-настоящему волнуясь, прицелился к месту, где сделать надпил. Зубья тронули кору, не услышав окрика, Михаил смелее надавил на пилу. Чем глубже уходила цепь в ствол, тем чаще вздрагивала крона, сбрасывая с веток снег. Ствол слегка наклонился и замер. Аникин не успел надавить на шест, как Белов выдернул пилу и тут же заглушил. В устоявшейся тишине все трое, закинув головы, смотрели на вершину.
– Надо было ещё чуть-чуть. Придётся всем толкать.
– Лишь бы не развернулась.
– Не должна.
– Боялся, вдруг зажмёт, – свой голос Белов не узнал, настолько он показался глухим и хриплым.
Сосна ещё не знала,что она умерла. Казалось, она собиралась стоять вечно. Гусев потянулся к пиле, готовый снова её запустить. Но вдруг сосна обречённо вздохнула и, освобождаясь от снега, ещё немного наклонилась и с хрустом, ломая ветки, обрушилась вниз. Снежная пыль взметнулась, накрывая пространство, зависла облаком и медленно осыпалась на плечи лесорубов.
– С почином, – Гусев сбил с плеч Белова снег.
Михаил подвыпрямился, с гордостью осматривал поваленное дерево. Недавняя жалость к роще исчезла, почувствовал себя хозяином леса. Самостоятельно запустил пилу и неспеша начал отсекать сучья. Ещё недавно сосна возносилась над людьми, теперь же лежала поверженная, с надломленными ветвями, и лишь мощный неохватный пень белел срезом, напоминал о могучем древе. Не одну сотню лет набирал силу ствол, наудивление ровный, без единого дупла, раскинув разлапистые ветви, красовался среди таких же красавиц: сосен и елей. Скоро не нужно будет задирать головы, останется мелколесье, такое же несуразное, как наступившая жизнь. Белов увлёкся, продолжал срезать сучья, изредка посматривая на Гусева. Но тот уже отошёл к другому вальщику, у которого застряла лесина, легла на деревья и не хотела соскальзывать вниз. Вальщик тыркал пилой по строптивому дереву, готовый отскочить в сторону. Но зависшее дерево не хотело валиться. Повернулся к Гусеву:
– Может, соседнее завалить, собьёт…
– А если нет? Устроим шалаш, потом не разгребёшь. Подрезай смелее, – Гусев не стал подходить ближе и Аникина остановил. – Сам напартачил, сам пускай и расхлёбывает.
Наконец лесина затрещала и вальщик, бросив пилу, метнулся по заранее протоптанной тропинке. Ствол надломился и верхушка медленно сползла на снег.
Небо разъяснилось, приподнялось выше, стали различаться облака. Мелькнуло солнышко и снова просвет затянуло дымным, но края выбелились, затаили солнечный свет. И было видно, как продирается розовое, красит полоской окраешек над лесом. Всё явственней вырисовываются тучи, и вот уже очищается восток, сгоняется с небосклона дымчатый пар. Полоса ширится, светится голубоватым, обещая солнечный день. Но солнышко ещё прячется, светится неясным кругляшом, пробует пробиться, но снова затягивается смурным, пепельным.
Белов повалил ещё пару деревьев, разохотился, но Гусев остановил:
– Для первого раза хватит.
И вдруг сорвался с места. Разбрасывая снег длинными ногами, добежал до соседней ёлки и с гиканьем застучал обухом топора по стволу. На вершине заметалась белка. Сиганула на берёзу и, обваливая снег, перепрыгивая с кроны на крону, исчезла с глаз. Гусев, с откинутой в сторону рукой с топором, продолжал кричать в след перепуганному зверьку. По-мальчишески радуясь, блестя зубами в улыбке, поделился восторгом:
– Раньше белок много было. В детстве гоняли, любили смотреть, как мелькают по деревьям. У-у, рыжая…
Белов, отдав пилу, очнулся как от спячки. Снова бросился в глаза раззор. Кое-где стояли берёзки с рябинами, к ним теснились сосёнки и ёлочки. По привычке лиственники рядом с молодняком не тронули, чтобы хвою не ожгло. Гусев пытался выхлестнуть всё подряд, но Гусаров остановил: вдруг жизнь изменится, будет с чего роще подняться.
Михаил скинул рукавицу, потрогал шершавую кору срубленной сосны. Почудилось, как под корой пульсирует жизнь, а может, это его кровь бьётся под кожей. С эстакады прокричали, позвали Белова. На просеку выползли два трактора. Первый, не задерживаясь, сразу въехал в траншею – встал под погрузку. На санях, прижавшись к стойке, стоял Кокорин – молодой мужик из нефедьевских. Весело прокричал:
– На помощь бросили!
– Пила есть?
– А как же! Враз всё выкосим…
Стойки на санях торчали с одной стороны, другие подрубили при разгрузке. Белов без слов понял чем заняться: стал зачищать вершинник, подготовленный для стоек.
Во время погрузки Михаил отвлёкся от ненужных мыслей. Не давая себе расслабиться, первый прыгал на волокушу выравнивать ряды. Чутьё подсказывало верные движения, и всё у него получалось ловко и быстро. Молодцевато помахал цепями, прежде чем накинуть на стойки. Мужики подождали, пока Белов в одиночку потужится, втоптали окурки в снег и разом навалились, натягивая проржавевшие, напитавшие скотный дух цепные звенья. Накатили сверху последний ряд и только после этого Михаил перевёл дыхание. И, словно боясь, не оглядывая рощу, замахал рукой, призывая второй трактор встать на погрузку. Но тот и сам уже в нетерпении пофыркивал, взрыл гусеницами сугроб и рывком пошёл к траншее.
Солнце очертило предметы, разбросало тени по оголённому полю. По остаткам ещё можно было угадать рощу. Вдали сосны стояли плотно, но за первыми рядами всё больше росло берёз и к самому берегу подходил осинник. Дальше, за рекой, снова поднимался густой неохватный лес. Туда и продвигалась бригада.
Глаза Михаила заслезились от яркого снега, и он выдавил влагу пальцем, растёр по щеке. Невольно осмотрелся. Когда-то цельное урочище расслоилось на отдельные деревья, кусты. Больше никто не придёт, не поклонится этому месту. Когда-то давно, тысячу лет назад, также вырубали священные рощи и многие души, не согласные с новым временем, рвались от боли и слёз, а то и кровь проливали, оставаясь верными заповедям отцов своих. Сотни лет деревья хранили смутную память о былом, притягивали жителей, будоражили их воображение, не давая забыть прошлое.
Звуки отдалялись, глохли, будто относило их ветром, очищая пространство от настоящего. И сам Белов отлетал куда-то в сторону, оставаясь на месте. Всё видимое вокруг пропадало, растворялось вместе с исчезающими звуками. Оставалось лишь пламя костра, языки на фоне снежного поля становились отчётливее, плескались в воздухе, приближаясь к Белову. Белый искрящийся покров тянулся за огнём, сливаясь в единое целое, и Михаил не понимал, почему пламя не плавит снег. Вихрились молочные хлопья опалённые огнём, метельно шли на Белова. Нездешняя сила чувствовалась от надвигающегося заноса. Энергия огненного бурана втягивала в себя, и Михаил, не сопротивляясь, сливался с нею. И вместе с ним, отдавая свою энергию, втягивался и весь окружающий мир. В оголённом поле выступали очертания бывшей рощи, но уже цельной, нетронутой, Михаил приподнимался над землёй и видел, как над деревней всплывает полупрозрачная непорушенная церковь и всё это охватывается огненной вьюгой и вливается в Белова. Энергия переполняет Михаила, и он разрастается, всё выше возносится к чему-то солнечному, готовый оторваться от земного и слиться со светоносной энергией изливающейся с небес. Но что-то треножило его. Чем выше становился Белов, тем явственней ощущал на себе путы. В стороне возникло дымное завихрение, порошей пошло на огонь, стараясь пригасить разрастающееся пламя. В разреженном тумане всё явственней прорисовывались контуры нелепой фигуры, она выбрасывала из себя тёмные нити, которые рассекали сливающиеся вместе энергии, не давали соединиться в одно целое. Смерчеобразное завихрение разрасталось, и чем сильнее Белов впитывал в себя энергии, тем мощнее становился темнеющий вихрь. Чем-то чужим охолодило душу, внезапно вспомнилось похожее состояние, когда он также разрастался, готовый объять весь мир. И тогда, в городском парке у старинной церкви, чужеродное накрыло его. Вспомнился и Ворсков, его уверенная поступь и слова про чужих. Бригадира чужесветным не испугаешь, отчего же у Белова сердце дрогнуло. Не устрашилось, но воспоминание, нахлынувшее на него, и те странные фигуры, которые он увидел на стыке здешнего и другого, неведомого мира, всколыхнули удивление, какое он испытал прошлым летом. Как и тогда Михаил не преодолел земное притяжение, но величие возможного, заложенного в человеке, он вновь ощутил. Туманные лохмотья замедлили своё движение, сворачивались к земле. И Белов, сгоняя минутную слабость, двинулся на слабеющий всплеск, готовый раскидать чужину, стремящуюся украсть у него мир. Огненный снежный буран терял очертания, и Михаил шёл сквозь него к видимой ему одному цели. Громкий вскрик остановил его:
– Куда прёшь, котёл опрокинешь!
Михаил с трудом возвращался в окружающий мир. Всё ещё готовый к борьбе, осмотрелся вокруг. Перед ним горел костёр, сзади матерились мужики, наваливая на волокушу брёвна. Дюков, сидя на корточках, подкладывал сучья в огонь, с интересом посматривал на Белова. Не отвечая, Михаил развернулся и пошёл к траншее.
К концу января дорубили последний клин хвойного леса. За два километра до реки остановились. Дальше стоял лиственникв перемешку с ёлкой. Попадались и кряжистые сосны, словно солдаты цепью раскинулись, оберегая тихое журчание скромной речушки с удивительно чистой родниковой водой. В редкий паводок она выходила из берегов, весной и летом спокойно текла по лесам, удивляя неизменной шириной и глубиной.
Ходили рассказы о ямах на дне, как будто проваливалось дно и вода, шипя и взбурливая, водоворотом крутилась на этом месте образуя воронку. Холодный пар столбом поднимался к небу, опаляя инеем попавших на своём пути птиц. Будто видели замёрзших птах посреди лета, ледяным, неистаявшим комочком лежали на берегу успокоенной воды. Мелка и одновременно бездонна река, как коротка и в тоже время бесконечна жизнь.
Много сказок создавалось об этих местах, а теперь какой из них поверят, когда перед глазами голое поле; вольно ветер гуляет, не шумнёт листвой, не скрипнет деревом – приволье кругом. Нет непроходимой гущи, нет и сказа. А сказка до конца читается, в серёдке не перебивается, напевной речью рассказывается, тихо и покорно воспринимается. А когда перебивка идёт, вскипает нутро, из мелкодонного в бездонное превращается, кротость ураганом заменяется. Но долог к этому путь, не хочет душа ожесточения, смиренна и подчинена духу…
 1
1  130
130