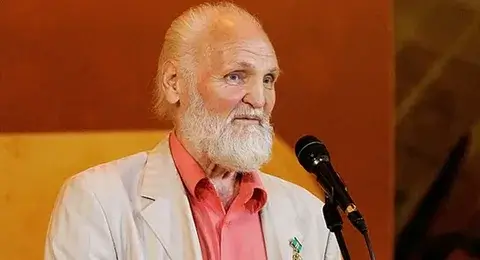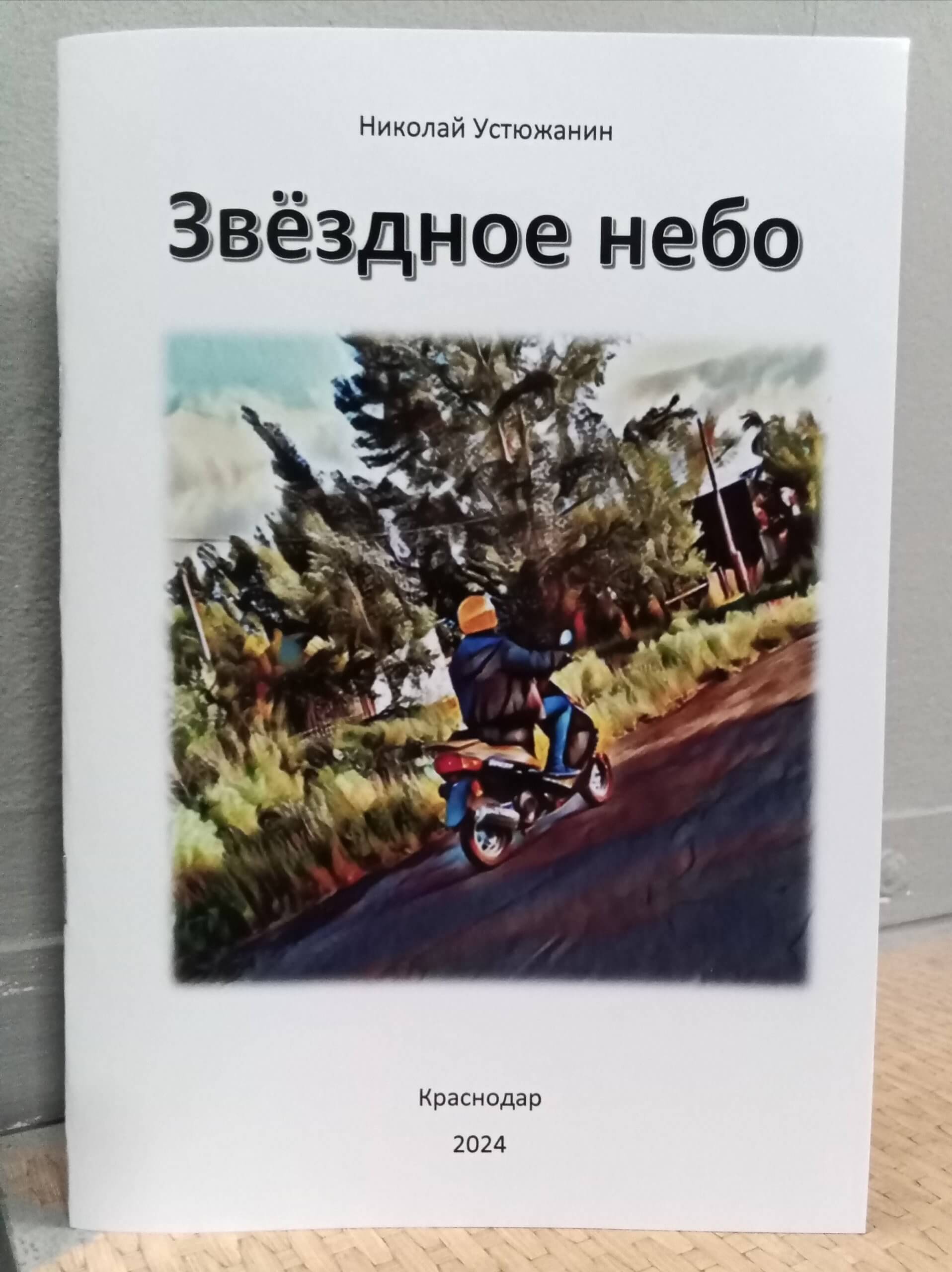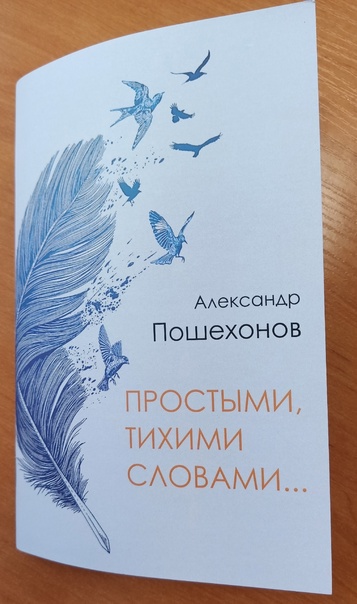Поездка в Вологду была запланирована давно, но всё откладывалась. Прошло чуть не два десятка лет с тех пор, как я перестал регулярно бывать в этом замечательном, уникальном городе. Перед нынешними новогодними каникулами было принято решение – надо ехать, пусть на пару дней, но вновь посетить Вологду просто необходимо. В юности я часто посещал этот город, так как миновать его тогда, по пути на мою малую родину – Никольский район, было практически невозможно.
Идею поехать в Вологду туристами поддержала дочка Катя и средний внук шестиклассник Иван. Жена в этот раз не смогла с нами поехать, но я твёрдо пообещал ей, что уже летом, во время отпуска, мы с ней побываем в Вологде. 30 декабря, на фирменном двухэтажном поезде Йошкар-Ола – Москва я отправился в столицу, где вместе с семьёй Кати встретил Новый год и уже в ночь с первого на второго января мы сели на проходящий через Москву поезд Смоленск – Архангельск и втроём отправились в небольшое путешествие. Хотя ехали в купейном вагоне, особым комфортом он не располагал. Мне даже показалось, что я вернулся в семидесятые-восьмидесятые годы, когда большинство пассажиров страны ездили в старых обшарпанных вагонах, где что-то всё время поскрипывает, постукивает, качается и так далее. Мы, привыкшие к комфорту и удобствам нашего поезда Йошкар-Ола – Москва, сначала несколько сникли, но благо посадка на поезд была за полночь, то мы сразу улеглись спать, а днём, ближе к полудню, уже прибыли на станцию Вологда 1.
В наше время переосмысливается роль личности в истории и можно с уверенностью сказать, что железнодорожная станция Вологда и вся Северная железная дорога появились благодаря знаменитому русскому меценату и известному промышленнику Савве Мамонтову. Памятник ему можно увидеть в Ярославле (в древнем городе, названном в честь великого русского князя), через который проходят поезда на Вологду, – прямо с перрона.
В 1859 году при участии семьи Мамонтовых было создано общество Московско-Ярославской железной дороги. Это было началом. Впоследствии Савва Иванович Мамонтов на собственные деньги построил железную дорогу от Ярославля до Вологды, а затем до Архангельска. Строительство было сопряжено с большими инженерными сложностями, в связи с тем, что большая часть дороги проходила по тайге, тундре и болотам. Неоднократно проложенные полотна и рельсы уходили в топь. Снова забивались сваи, насыпался камень и прокладывались рельсы. Так была построена Северная железная дорога, впоследствии переданная в казну, то есть в государственное управление.
Ещё до начала поездки я пытался донести до внука мысль о необходимости прочитать или выслушать от деда некоторые сведения об истории Вологды и вообще об освоении Русского Севера.
Под Русским Севером обычно подразумевается обширная территория на севере Европейской части страны, включающая в себя земли нынешних Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми. К Русскому Северу в прошлом относилась и Вятская земля (нынешняя Кировская область), а также относящийся ныне к Уралу Пермский край. В настоящее время Русский Север относится к Северо-Западному Федеральному округу. Экономическая география также относит Русский Север к части Северо-Западного экономического региона. Но в области истории, этнологии и культуры Север является самостоятельным уникальным краем.
Русский Север стал первой географической областью, которая вошла в состав древней русской государственности в результате колонизации. В начале русской колонизации этот край назывался Заволочьем. С XVI века утвердилось название Поморье. В имперскую эпоху название Поморье постепенно стало заменяться сугубо географическим названием «Север».
Этот край лежит в бассейнах рек Северной Двины, Онеги, Мезени, Печоры, и обширного края озер, среди которых Ладожское, Белое и Онежское. Упирается Русский Север в моря Северного Ледовитого океана. В силу отдалённости от Атлантического океана климат Русского Севера – самый суровый в Европе. Суровость климата усиливается в северо-восточном направлении от Вологды к низовьям Печоры. При этом заполярное побережье Баренцева моря у берегов Кольского полуострова (Мурманская область) благодаря заходящей сюда ветви Гольфстрима не замерзает и зимой. Зато находящееся южнее Белое море покрыто льдом 6-9 месяцев в году. Вплоть до Полярного круга вся территория края покрыта хвойными лесами, в которых в западной части края преобладает сосна, в восточной – ель.
Низкие температуры и густая растительность в таёжной зоне способствуют слабой испаряемости, что привело к огромной заболоченности края. Не случайно долгое время в крае почти не было сухопутных путей. Реки были единственными путями сообщений.
К Северному Ледовитому океану наши предки вышли около тысячи лет назад. Осваивая зону лиственных лесов, славяне долгое время не выходили за пределы этой области, годной для земледелия, протянувшейся от Чудского озера, южного берега Ладожского озера и до линии современного Волго-Балтийского пути по рекам Шексне, Белому озеру и до Волги. Ранее по линии Волго-Балтийского пути шёл речной путь, часть которого приходилась на волоки. По этой причине земли к северу от водораздела Волги называли Заволочьем (впервые это географическое понятие употреблено в 1078 году). Далее на север лежала необжитая тайга, пугающая и одновременно завораживающая своими необъятными просторами.
Достигли южной границы тайги славяне уже в V-VI веке. Поселения славян того времени найдены на реках Чагодоще, Кобоже, Колпи, Мологе (в пределах нынешних Ленинградской и Вологодской областей). Вслед за этим славяне медленно начали проникать вглубь тайги, распространяя впервые в этих местах земледелие, завязывая торговые отношения с заволоцкой чудью, жившей еще в каменном веке. Под 862 годом летописи упоминают город Белоозеро, в котором князем сел брат Рюрика – Синеус.
В 1137 году в Уставной грамоте новгородского князя был составлен список новгородских погостов (поселений и пунктов сбора дани) в Заволочье. Многие перечисленные там населенные пункты существуют и по сей день. Так, в грамоте упомянуты Тудоров Погост, Вельск, Векшеньга, Тотьма, и другие поселения, которые и ныне можно найти в Вологодской области. В 1147 году новгородцы основали на волоке между реками Шексна и Сухона Вологду. Поселение это, естественно, было образовано намного раньше, но отчёт ведется от даты упоминания Вологды в письменных источниках, а именно, когда монах Герасим, пришедший из Киева, основал на этом месте мужской монастырь. В те времена все города начинались со строительства монастырей и крепостей.
Современная Вологда встретила нас лёгкой оттепелью, что уже не кажется странным в местах, где совсем недавно январь воспринимался как главный зимний месяц с сильными морозами и снежными сугробами. Внешний вид знакомого здания вокзала не изменился за два с лишним десятилетия. Мы сели в такси и поехали в гостиницу «Светлица». Водитель, молодой мужчина, за короткий промежуток времени успел нам немного рассказать о городе, объяснить, почему он работает в такси, хотя специалист-строитель высокого уровня, новом губернаторе и даже посоветовал, что обязательно надо посмотреть в Вологде. Надо сказать, что доброжелательность, отзывчивость и готовность помочь – это черты вологодских людей на генетическом уровне. Конечно, мы и сами старались расположить к себе разных собеседников, особенно случайных, чтобы впитать в себя как можно больше информации «от народа», но особых усилий не требовалось, люди и так охотно шли на контакт.
Несмотря на то, что время заезда в отель было определено заранее – 14 часов, а мы приехали в двенадцать, нам сразу выдали ключи в подготовленный трёхместный номер и попросили заказать блюда на завтрак следующего дня. Разместившись в гостинице, мы поспешили пешком пройтись по улицам древнего города, куда я так стремился.
Выйдя из отеля и пройдя немного по Набережной 6-й Армии вдоль реки Вологды, по пешеходному мосту, который называется Красный мост, мы перешли реку и оказались на набережной с каменными домами, в очертаниях которых сразу можно увидеть дворянские особняки и гимназии позапрошлого века. Эти здания, построенные в 19 веке, образуют впечатляющий архитектурный ансамбль, сохранённый в его первоначальном виде. Изменилось, естественно, назначение и внутреннее убранство помещений.
Рядом, у Красного моста, мы увидели скульптурную композицию в виде фонарного столба и примостившейся около него собаки. Этот памятный знак установлен в 2004 году к столетию электрического освещения улиц в Вологде. Как и принято, такую скульптуру надо обязательно погладить и даже чуть пожалеть дворняжку.
Недалеко находится Кукольный театр, и мы внимательно изучили его афишу. Затем, побродив по безлюдному Кировскому скверу с многочисленными скамейками, пошли по улице Ленина по направлению в центр через улицу Мира и проспект Победы. Около Дворца культуры, который одновременно используется для церемоний торжественных бракосочетаний, пообщались с группой девушек – подружек невесты, затем остановились около филармонии на площади Революции и задержались на площади Свободы. Кстати, здание филармонии построено в конце восемнадцатого века. С 1822 года в нём размещалось Дворянское собрание, при котором торжественно принимали императоров Александра I и Александра II. Наша прогулка продолжалась, но погода, хотя и была явно не зимней, всё равно была довольно промозглой и ветреной, и вскоре мы сообразили, что нам нужно согреться, а потому, побродив ещё немного по улицам города, мы зашли в кафе «Крылья и креветки». Молодая официантка на входе сразу предложила присесть за свободный столик. Я сказал, что вообще-то мы зашли просто погреться и вызвать такси на адрес кафе. Удивила реакция девушки:
– Вы располагайтесь, где вам удобно, грейтесь. Такси можно вызвать по нашему адресу… Но если всё-таки надумаете заказать кофе или чай, дайте знать, я рядом.
Тронутые таким вниманием и заботой, мы воспользовались советом милой официантки, выпили по чашечке горячего душистого кофе и вызвали такси. Уходя, я заверил официанток, которые прощались с нами, что мы обязательно заглянем к ним в кафе и попробуем что-либо из их основного ассортимента. Надо отметить, что слово своё мы сдержали.
По центру Вологды лучше всего ходить пешком, наше желание проехать на такси до Софийского собора объяснялся лишь тем, что хотелось сохранить силы и хорошее настроение для дальнейшего осмотра городских достопримечательностей. А смотреть было на что. Недалеко от Соборной горки мы прошли через украшенные новогодними гирляндами арки и остановились у русской печки, в которой варились блюда по старинным рецептам, которыми можно было угоститься прямо здесь, за установленными на улице столами. Я попытался поведать Ване, что это та самая печь, на которой катался известный персонаж русских сказок – Емеля. Но внук только усмехнулся: за печью на колёсах стояла компактная иномарка, которая и доставила мобильную печку в центр города, но разговаривая со мной на одной волне, Иван предложил: «Оглядись внимательно, где-нибудь в деревянном ведре отыщется щука для исполнения желаний». Щуки не было, но сама идея для привлечения туристов явно колоритна и обсуждаема.
Ваня пару раз скатился по снежно-ледяному скату берега реки, недалеко от памятника поэту, участнику Отечественной войны 1812 года Константину Батюшкову, и мы направились в Воскресенский кафедральный собор, что находится на Кремлёвской площади, постоять перед святыми образами и поставить свечки. Внутреннее убранство собора такого уровня требует тишины, душевного настроя, особого спокойствия и молитвенного преклонения. Этот величественный храм был возведён в 1776 году и построен в стиле рококо на месте разобранной угловой башни Архиерейского двора. В 1938 году был закрыт в соответствии с политикой борьбы против церкви советских властей того времени. С начала пятидесятых годов двадцатого века внутри собора размещалась картинная галерея. В наше время Воскресенский собор снова принадлежит Русской Православной Церкви и выполняет функции кафедрального храма.
Рядом с Воскресенским собором возвышается Софийский собор и колокольня. Этот храм – древнейшее из сохранившихся в Вологде зданий. Он возведён по указу Ивана Грозного в 1570 году посреди строящейся крепости по образцу Успенского собора Московского Кремля. Иван Грозный решил перенести столицу русского государства из Москвы в Вологду, и началось строительство соответствующей крепости – Вологодского кремля и главного собора – Софийского. Собор построили быстро, но случай не дал возможности Вологде стать столицей. Когда Иван IV осматривал изнутри построенный храм, на голову царя упал кусок штукатурки. Государь очень разозлился. Он предположил, что это дурное предзнаменование, а поскольку обладал взрывным характером, то тотчас покинул сооружение и приказал разобрать построенный собор на кирпичи. Более он не приезжал в Вологду, хотя ранее жил здесь месяцами. Только вологодские мужики и даже воеводство не стали выполнять сумасбродную царскую волю. Собор остался стоять на месте, а гнев государя вскоре забылся. Грозный при всей своей необузданности был в первую очередь государем и заботился о государстве, а может, кто-то из его окружения отговорил от опрометчивого шага. Теперь по этому поводу можно только легендами довольствоваться.
В моих семейных альбомах сохранилась фотография начала девяностых годов прошлого века. На ней я с детьми, и наша первая машина, на которой мы ездили в Никольск; мы стоим на фоне Софийского собора в раннее утреннее время. Тогда ещё можно было проехать по Кремлёвской площади рано утром или поздно вечером.
На этой площади в двухэтажном здании, построенном в стиле позднего классицизма, находится Музей кружева. Учитывая традиционность кружевных коллекций и современное оборудование, этот музей совершенно уникален. Здесь, кроме салона-магазина, есть кафе, учебный класс, постоянно работают выставки, о которых рассказывать очень сложно. Вологодские кружева надо разглядывать и восхищаться. Написать о них вполне достоверно и только в превосходной степени – не хватит образности слова даже романтикам и поэтам. Поэтому – приезжайте и восхищайтесь.
Обедать мы решили в ресторане Прометей, куда нас такси доставило за несколько минут. В нём всё выглядело солидно, достойно и весьма современно. Разнообразный выбор блюд, а цены соответствуют ресторанному уровню. Но поскольку мы были не просто туристы, а туристы отдыхающие, то я великодушно позволил моим спутникам выбрать любые блюда. Однако, Катя и Ваня не особо привередничали и заказали знакомые им блюда. Замечу по этому поводу, что желающим отведать традиционную вологодскую кухню – старинные её блюда, лучше посетить деревни, расположенные недалеко от областного центра, где некоторые предприимчивые жители открыли собственный бизнес, и в теремках соответствующего стиля, угостят гостей и туристов забытыми ныне «штями», нежными блинами, мясом, приготовленным в чугунках и в русской печи, домашним квасом и многими другими блюдами.
Обедая, мы с Катей вспоминали, какими домашними изысками угощала нас моя мама, Мария Васильевна, когда мы семьёй приезжали в родительский дом в деревню Подольская Никольского района Вологодской области. Какой чарующий запах вдыхали с утра, когда просыпались в родном доме. Слава богу, мы сумели сохранить отчий дом и после смерти родителей, отреставрировали его и регулярно приезжаем в родную деревню все эти годы.
После обеда, а время близилось к вечеру, мы решили немного отдохнуть в отеле, но неугомонный внук настоял, чтобы мы сыграли пару часиков в интеллектуальные игры, в которых он считал себе докой, и нам оставалось только согласиться. Ужинали поздно, в кафе «Крылья и креветки», куда пришли согласно данному обещанию и не пожалели. Всё было вкусно, а учитывая предупредительность персонала, мы остались очень довольны и возвращались в отель, взяв с собой большую коробку с пиццей. Так, на всякий случай, чтобы хоть немного заполнить холодильник, который находился в номере отеля.
Поздним вечером я вышел из гостиницы и отправился на набережную. Здесь, в одиночестве, я вспоминал, как когда-то, очень давно, прогуливался по этим местам с милой девушкой Галей Горбуновой. Я встречался с ней, когда учился в десятом классе Аргуновской средней школы. Галя была на год старше меня, школу закончила раньше, но сначала осталась в родном селе Аргуново. В этот период я и провожал иногда её домой, после вечерних киносеансов в клубе. Затем мы расстались. Галя уехала учиться в Вологду, а я в Йошкар-Олу. Однажды, года через два, в Никольском аэропорту ко мне подошёл молодой парень и спросил:
– Толя, ты меня не узнаёшь?
Это был Юра, младший брат Гали. Мы разговорились. Незаметно разговор зашёл о его сестре.
– Почему ты ей не пишешь и вообще не даёшь о себе знать? – спросил меня Юрий.
– Так она, по слухам, после меня встречалась с другим парнем. Как это будет выглядеть, если я напишу ей?
– Встречалась, очень может быть. Только, когда приезжает домой на каникулы, всегда о тебе спрашивает и, мне кажется, переживает, но первая тебе писать не будет – она у нас такая. Я тебе сейчас её адрес напишу, она в общежитии техникума живёт в Вологде.
Я нашёл Галю. Сделать это было нетрудно. Я прилетел в Вологду и у меня до отправления московского поезда, на котором я собирался ехать дальше, было чуть меньше суток свободного времени. Галя обрадовалась, увидев меня, а когда мы остались вдвоём, спросила:
– Сам решился приехать или подсказал кто?
Я ответил, не моргнув и глазом:
– Конечно сам!
Мы вместе провели незабываемый вечер, а на следующий день долго гуляли по зимним улицам города, но совсем не чувствовали холода. Потом пили чай с картофельными пирожками в каком-то кафетерии или кулинарии, и всё время разговаривали, держась за руки. Мы были молоды, категоричны, а наши отношения безоблачны и романтичны. Этот день пролетел необычайно быстро, мы забыли о времени, а спохватившись – чтобы я не опоздал на поезд, – мы ринулись на вокзал, и я боялся только одного – лишь бы Галя не поскользнулась на заснеженных тротуарах в своих кожаных сапожках, которые так элегантно облегали её стройные ножки, а потому держал её за руку и мы словно летели по городу, ведомые нежными чувствами и радужными мечтами. Я успел взять дорожную сумку из камеры хранения вокзала и вскочить в вагон, а Галя стояла на перроне и долго махала рукой вслед уходящему поезду.
Юношеские мечты и девичьи грёзы так и остались несбывшимися. Через пятнадцать лет я снова встретился с Галей, когда приехал на встречу выпускников в Аргуновскую школу. У нас, у каждого, были свои семьи, но мы были рады видеть друг друга. Мы с ней даже не стали скрупулёзно и детально разбираться: почему прекратилась наша переписка и кто виноват в этом? Нам было достаточно видеть друг друга и вспоминать с улыбкой наш забег по заснеженной Вологде, нашу юность, которая никогда не вернётся, но навсегда останется в памяти. Только сейчас я понимаю, что тогда на перроне Вологодского вокзала осталась не только девушка Галя, там навсегда оставалась наша юношеская непосредственность, искренность первых увлечений и отчаянная бесшабашность. Мои воспоминания прервала Катя, которая, обеспокоенная моим долгим отсутствием, позвонила мне. Пришлось возвращаться в гостиницу.
Утром следующего дня, позавтракав, мы отправились на такси в Спасо-Прилуцкий монастырь. Он находится на северной окраине Вологды, всего в 3-4 километрах от центра города. Монастырь основан в конце ХIV века Дмитрием Прилуцким, сподвижником преподобного Сергия Радонежского. В смутное время монастырь неоднократно грабился польскими интервентами и «воровскими людьми», поэтому его и без того высокие каменные стены были усилены, чтобы впредь захватчики не смогли их одолеть. А стены действительно выглядят впечатляюще. Туристы имеют возможность подняться на них и пройтись по одному из участков древнего защитного сооружения с башнями и бойницами.
В наше время, с 1991 года в монастыре возрождена монашеская жизнь. Возглавляет обитель наместник Ферапонт. Мне не удалось пообщаться с ним, но я поговорил с одним из молодых монахов, который и рассказал мне о жизни в монастыре и семинарии, что расположена на территории монастыря. Надо отметить, что монастыри ныне немногочисленные, в Прилуках постоянно находятся всего десять монахов. Но, как принято, на необходимые сельскохозяйственные и другие работы к ним приезжают паломники и добровольные помощники.
Во второй половине дня у нас была запланирована автомобильная экскурсия по Вологде. За несколько дней до поездки я пытался найти по интернету вологодского гида с автомобилем, но такой услуги на соответствующих сайтах не было. Тогда я обратился за помощью к своему старшему внуку Алексею из Москвы. И буквально через пару часов мне позвонила из Вологды экскурсовод Ирина и сказала, что уговорила своего мужа показать нам город из автомобиля, в котором он будет за рулём, а она – гидом.
Ирина и её муж, тоже Алексей, оказались очень приветливыми и разговорчивыми людьми. Ирина не только экскурсовод, она занимается составлением родословных для жителей Вологды, а потому беседовать с ней было интересно на разные темы. Алексей – мастер на все руки, он – строитель, плотник, реставратор и тоже хорошо знает историю города. У них в семье четверо детей, а для меня это является очень важной характеристикой.
Мы не спеша ехали по улицам, останавливались, выходили из машины, чтобы полюбоваться очередной достопримечательностью, и снова ехали дальше. Памятник 800-летию Вологды, знак «Нулевой километр», памятник букве «О», скульптурные композиции «Песняры» и «Вологодский почтальон», парки, скверы, многочисленные исторические здания, как например, Дом генерал-губернатора, гостиница «Золотой якорь» и бесчисленное количество деревянных домов, которые принадлежали в прошлых веках дворянам, купцам и зажиточным горожанам, а в наше время там размещаются офисы банков, страховых компаний, государственных учреждений и бизнес-структур.
Мы много фотографировались, да и как иначе. Разве можно проехать мимо оригинального дома с названием «Резной палисад», где, естественно, расположены прилавки с изделиями ручной работы местных умельцев и различными сувенирами. Что касается подобного рода товаров, то их предложение помогает понять, какое огромное количество туристов приезжает в современную Вологду. Например, осматривая торговые ярмарочные ряды в Архиерейском дворе (в древнем каменном строении), среди толпы людей мы даже искали друг друга, звоня по телефону. Через два часа, когда наше экскурсионное время закончилось, а Ирину ждали другие туристы для пешеходной экскурсии, Алексей, видя нашу заинтересованность в истории города, уже по собственной инициативе, без дополнительной оплаты продолжал показывать нам город. Он даже спросил: «Может, что-то ещё хотите посмотреть?». Я попросил ненадолго остановиться у драматического театра. В последние годы театр занимает много места в моей жизни и творчестве, а потому мне хотелось взглянуть на современное здание знаменитого Вологодского театра, который является одним из старейших театров России (основан в 1849 году). А завершающим штрихом нашей замечательной экскурсии было посещение торгового центра «Промыслы Вологодчины», где мы приобрели для родных и друзей вологодское масло. Давно знаю: все мои близкие и знакомые считают лучшим сувениром из Вологодской области – вологодское масло. Объяснять, почему – нет необходимости.
При покупках в «Промыслах Вологодчины» произошёл интересный эпизод. Я приобрёл несколько упаковок масла и, несмотря на настойчивые предложения продавщицы обратить внимание на другие товары, отошёл от прилавка. Наступила очередь Кати. Она взяла масло и хотела рассчитаться, но здесь расторопная девушка за прилавком, как показалось, с искренним изумлением спросила: «А вы что – не возьмёте эти трюфеля? Это же совершенно новый товар! Гордость мастеров наших». Катя согласилась. «К ним обязательно надо взять вот этот высокосортный сыр. Это наше новое чудо!». Катя снова не смогла возразить. Как долго это бы продолжалось, не берусь сказать, я в это время в другом конце зала приобретал деревянные расчёски с вырезанной на них надписью «Вологда», но Катя вышла из магазина с большим пакетом, заполненным различными продуктами, умело разрекламированными и проданными подготовленной и настойчивой продавщицей. На мои вопросы Катя только и ответила: «Она была так убедительна». Позднее об этом случае высокого мастерства девушки за прилавком в области маркетологии мы весело рассказывали родным и близким в Москве.
Расставались с Ириной и Алексеем мы добрыми приятелями и договорились обязательно продолжить знакомство с городом летом, уже в более полном семейном составе.
Как только мы оказались в отеле, я позвонил вологодскому поэту Михаилу Карачёву, который возглавляет региональное отделение Союза писателей России и встреча с которым была запланирована заранее. Михаил Иванович пригласил нас к себе домой. Мы знакомы давно, а встречались в 2023 году в Москве, накануне ХVI съезда Союза писателей России. Будучи делегатом съезда от Республики Марий Эл, я выехал в столицу на день раньше. Для этого были причины. 9 февраля в Представительстве Вологодской области была намечена творческая встреча с поэтом Михаилом Карачёвым. Нас связывают дружеские отношения, и я сразу откликнулся на его приглашение прибыть на вечер, где происходила презентация его новой книги стихов. С автором мы встретились у входа в старинный особняк в Староконюшенном переулке, где расположено Представительство. Это центральная часть Москвы и здесь находятся различные ведомства, в том числе посольства зарубежных стран. Мероприятие проходило в конференц-зале, но прежде чем пройти туда, мы рассмотрели галерею картин вологодских художников, размещённую в холле перед конференц-залом. На той встрече присутствовали председатель Вологодского землячества Михаил Евдокимов, бывший первый секретарь Вологодского обкома партии Валентин Купцов, сподвижник в области культуры и литературы, поэтесса Полина Рожнова и многие другие наши известные земляки. С некоторыми из них, как например, с Игнатием Белозерцевым, поэтом, уроженцем Никольского района, я уже был знаком ранее. Во время чаепития, которое стало непременным атрибутом подобных встреч, мне удалось пообщаться со многими земляками. Удалось, в том числе, поговорить с вдовой Василия Белова – Ольгой Сергеевной. Она сейчас живёт в Москве, а в вологодской квартире писателя – музей Белова.
Михаил Карачев не только поэт. Он с 1980 года активно занимается охраной историко-культурного наследия, долгое время руководил Государственной дирекцией по охране памятников истории и культуры Вологодской области. Внешне скромный, Михаил Иванович обладает стойким характером, что отметил тогда, на московской встрече, в своём выступлении Валентин Купцов. В годы, когда он руководил областью, Михаил Карачёв смело вступал с ним в жёсткую полемику по поводу охраны памятников культуры. Свою принципиальность, уже как общественный деятель, Карачёв сохранил и в наши дни. Именно благодаря его многолетней деятельности в защиту вологодских памятников архитектуры сохранены уникальные деревянные и кирпичные дома в центре города. Принципиальность Михаила Карачёва известна и среди литераторов страны. Дело в том, что именно он проводит большую работу, чтобы в Вологодском региональном отделении Союза писателей России были настоящие поэты и прозаики. И действительно, писательскому сообществу Вологодчины есть чем гордится. В немногочисленной региональной писательской организации в основном известные авторы.
Дом с вековой историей, в котором живёт с семьёй Михаил Карачёв, тоже пришлось восстанавливать и сохранять, а для этого требуется потратить не только время, усилия, но и финансовые ресурсы. Это того стоило. Просторный, из нескольких комнат, жилой дом, построенный из огромных брёвен, является типичным образцом деревянных строений Вологды.
Хозяин дома встретил нас на улице, его жена Надя ждала нас в большой комнате, где был накрыт стол. Мебель в зале соответствовала стилю и возрасту дома: деревянные комоды, шкафы и стулья были изготовлены много десятилетий назад. Каждый элемент такого необыкновенного гарнитура имеет свою историю, о чём вкратце и поведали нам хозяева. За чаем мы разговаривали о проблемах, с которыми сталкивался Карачёв, когда в различных инстанциях добивался сохранения домов и улиц города в их историческом виде. Эти истории от первого лица о борьбе за город в том виде, каким он сейчас выглядит, должны знать население и чиновники областного центра. Надеюсь, Михаил Иванович опубликует свои воспоминания отдельной книгой.
Через пару часов мы в сопровождении Михаила рассматривали каменные особняки и деревянные дома Вологды, о каждом из которых он мог долго рассказывать. Естественно, побывали и у здания, где располагается офис регионального отделения Союза писателей России. Как и следовало ожидать, оно тоже по-своему уникально и имеет свою любопытную и поучительную историю.
Вечером мы с Михаилом, уже без сопровождающих, сидели в пивном баре. В вечерние часы первых дней нового года сложно найти свободные столики в городских кафе и ресторанах, а потому мы продолжили наши разговоры в небольшом помещении с названием «Пивоварня» и с удовольствием угощались пивом, изготовленном в Великом Устюге, под названием «Семён Дежнёв». Оно полностью соответствовало имени марки пива: пенистое, крепкое и даже, определённо, солидное. Количество закусок в баре манило своим разнообразием. Теперь, оставшись вдвоём, мы разговор наш полностью посвятили писателям и литературе. Михаил знает лично всех вологодских литераторов и знаком с творчеством многих российских писателей. Говорить с ним на эти темы было чрезвычайно интересно и полезно. Сначала разговаривали о Василии Белове, Николае Рубцове, Ольге Фокиной, Викторе Коротаеве, затем мой собеседник дал подробную оценку творчеству некоторых современных авторов. Естественно, сидя, говоря образно, «за кружкой пива», мы не могли обойти тему пивоварения в сёлах и деревнях Вологодской области в недавнем прошлом. Здесь, надеюсь, уместно изложить некий экскурс о деревенском пиве нашего северного края.
Из детских воспоминаний, что я сохранил, самыми яркими являлись регулярные и повсеместные тогда, в восточных районах Вологодской области, деревенские праздники. Народ умел не только работать. Люди умели устраивать себе так называемые Летние праздники. В каждой деревне был определён день, когда раз в году одновременно все жители деревни варили пиво (ничего общего с повсеместно принятым современным понятием пива оно не имеет) и звали в гости родных и знакомых из других деревень. Этот день так и назывался «Праздник».
В Калинино праздник проходил в Заговенье (день начала сенокоса), в Челпаново – в Николин день (19 июня), в Наговицино – в середине сенокоса, в Подольской – в Вознесенье.
Процесс изготовления деревенского вологодского пива, которое являлось непременным атрибутом всех праздников и застолий многие десятилетия, достаточно сложен и непременно требует практических навыков. Даже зная рецепт приготовления, неподготовленный человек не сможет сварить этот неповторимый напиток. После того, как была намечена дата варки пива, сначала вымачивали в реке мешки с рожью, проросшую рожь просушивали и везли на мельницу. Там приготавливали солод, это основной компонент. Для варки пива необходимо заблаговременно взять у односельчан или у жителей соседних деревень, которые недавно варили пиво, так называемый, «мел» – это неупотребляемый осадок от основного продукта. В те годы пиво варили часто и с «мелом» проблем не было, в наши дни иногда приходится ехать за «мелом» довольно далеко, а прежде чем ехать, надо узнать, где недавно варили пиво. Без этого ингредиента и начинать бесполезно. Кроме того, обязательно нужен хмель, который раньше выращивался в каждом подворье, а в наши дни это тоже редкость. Когда всё было подготовлено, на улице разжигали большой костёр, поленья дров, для которого складывались особым способом, так, чтобы внутри костра можно было положить большое количество речных камней. Камни нагревались докрасна, и тогда их на вилах несколько человек носили от костра к пивовару, который принимал раскалённые камни в деревянный ковш с длинной ручкой и опускал в большой деревянный чан (бочка диаметром полтора метра и больше). В чане заранее готовили специальный раствор из солода (солод приготавливали из проросшей ржи). В центре бочки находился высокий деревянный штырь, который закрывал соответствующее отверстие в днище бочки. Мастер-пивовар, опуская в раствор горячие камни, доводил его до кипения (даже зимой, в сильные морозы). Самое главное в процессе – удержать кипящий раствор в чане. Если переборщить с количеством камней, то от высокой температуры раствор «поплывёт» и буквально вывалится из чана белой пеной, как каша, оставленная на огне забывчивой хозяйкой. Мастер сам определял время готовности продукта. Из снопов делался специальный фильтр в виде крестовины, он надевался сверху на штырь и опускался на дно чана. Затем, когда содержимое чана остывало, пивовар укладывал поперек бочки деревянное весло, которым он, как правило, размешивал раствор и осторожно с помощью ножа, для которого весло становилось опорой, начинал приподнимать штырь из чана. Это самый ответственный момент. Если все сделано правильно, то из-под чана в специальное деревянное корыто (сам чан устанавливался на два толстых бревна, которые лежали на земле, а между ними ставили корыто) тонкой струйкой начинала течь прозрачная, с багровым оттенком жидкость, которая называлась сусло. Если же сусло грязного цвета, с различными примесями или же оно не текло вовсе, то вся работа насмарку, исправить её не возможно. В таких случаях обычно говорили: «Сварил кисель».
При подобном конфузе всё содержимое из чана скармливали скоту, а горе-мастера уже не считали пивоваром. Но это бывало крайне редко. Прежде чем самостоятельно варить пиво мужчины приобретали навыки от отцов, родственников, соседей и так далее.
Затем пивовар с помощью ножа регулировал струю сусла: устанавливал нож в соответствующее стационарное положение для равномерной струи. Женщины маленькими деревянными ковшами вычерпывали из корыта сусло и заполняли им котёл, куда добавляли хмель, затем этот состав кипятили (котёл подвешивался, а под ним разводили костёр). Полученный продукт складывали в лагуны (небольшие деревянные бочки с маленьким отверстием в верхнем днище, которое закрывалось деревянной пробкой) и добавляли туда «приголовок» (мел). В этих лагунах сусло окончательно приобретало свойства пива. Лагуны с пивом опускались в погреб, где оно могло храниться 3-5 дней. Такое пиво может иметь достаточно высокое количество градусов 10-12.
В Праздник в каждом доме гостей угощали пивом и разными закусками. На столах стояло варёное, жареное, сушёное мясо, солёные грибы, картошка и капуста в различных вариациях, пироги, которые хозяйка обязательно пекла сама, мочёная брусника, рыба, холодец и разные другие приготовленные хозяйкой блюда. Гости тоже не приходили с пустыми руками. Женщины несли с собой большие корзины, в которые были положены пироги, испечённые по этому поводу из белой муки, а также конфеты, печенье и другие сладости. За столом непроизвольно проходил своеобразный конкурс среди хозяек – у каждой пироги имели свою неповторимую особенность, и каждая по очереди угощала ими хозяйку и гостей с непременной подачей белужки пива. Мужчина мог взять с собой на Праздник гармошку.
Одевались по такому случаю в лучшие наряды. Для женщин это были, как правило, нарядные «тройки», то есть сарафан, кофта и фартук, отороченные цветными лентами. На голове обязательно должен быть платок или полушалок. На ногах в большинстве своём были лапти, но в такие дни можно было увидеть женщин и девушек в сапожках, а мужчин и парней в сапогах. Молодые девушки, которым родители строго наказывали беречь дорогие сапожки, обычно шли на Праздник в другую деревню в лаптях, а сапожки несли в узелке. Не доходя до деревни, где предстояло гулянье, они надевали сапожки, а лапти прятали в стогу сена или в кустах. После Праздника, возвращаясь домой, они снова надевали лапти, а сапожки несли в руках. Это традиция сохранялась до 40-х годов 20-го столетия.
Мама мне рассказывала, что в предвоенные годы она вместе со своей подружкой Манькой Ираидкиной пошла на Праздник в Оксилово. Они, как обычно, переобулись у деревни, а лапти спрятали в стогу соломы. На Празднике они гуляли со знакомыми парнями, которые явно проявляли к ним интерес. Вместе они плясали, водили хороводы, а когда девушкам пришла пора возвращаться домой, ребята напросились провожать их. Девушкам парни тоже нравились, да и знакомы они были давно, поэтому поначалу очень были рады, что их провожают. Проходя мимо скирды с соломой, подружки переглянулись, но при парнях признаваться, что они пришли на Праздник вообще-то в лаптях, конечно, не захотели. От Оксилова до Подольской километров шесть. Так и шли они вчетвером, разбившись парами, до самой деревни. На опушке, у деревни девушки попрощались с провожатыми и пожелали им счастливого обратного пути. Когда парни скрылись, подружки несколько минут беспрерывно хохотали, а потом отправились обратно до Оксилова за лаптями. Две Мани дружили с этими ребятами до самой войны. Парней призвали на фронт во время Великой Отечественной войны и оба не вернулись.
На Празднике всюду звучали гармони и тальянки. Девушки, молодые женщины вставали в ряд человек по 6-8, брали друг друга под руки, сбоку крайним пристраивался гармонист и такими шеренгами, одна за другой, с песнями и частушками, шли вдоль центральной деревенской улицы.
Затем на площади водили хороводы, плясали и, непременно, снова пели частушки про милёночков, дролей, зазноб и ягодиночек. Здесь парни плясали с девушками, общались с ними и высматривали себе будущих жён. Праздники носили подчёркнуто светский характер. При строгом патриархальном укладе жизни девушкам не дозволялось в обычные дни гулять с парнями, тем более из других деревень. Парень мог открыто приходить к девушке на свидание, только когда она была уже за него сосватана. Видимо поэтому, чтобы в деревнях были определённые дни, когда девушки и парни могли запросто общаться, наши предки и придумали в древние времена такие Праздники. Да и вполне взрослым людям хотелось отдохнуть от повседневных дел.
Сейчас уже именно такое пиво даже в деревнях не варят. Применяют при изготовлении другие ингредиенты. Но традиции в определённой мере сохраняются. Например, на Ильинской ярмарке в Никольске ежегодно проводится конкурс пивоваров.
А в этот январский вечер мы расставались с Михаилом Ивановичем в надежде, что обязательно вновь увидимся в Вологде и в Йошкар-Оле, куда я пригласил вологодского поэта и друга.
Я давно уже живу Йошкар-Оле, которая стала для меня родным городом, где прошли основные этапы моей карьеры и творческой деятельности. За это время региональная столица изменилась до неузнаваемости. Новые мосты через реку Малая Кокшаг, великолепные дворцы, златоглавые храмы и просто красивые здания придали столице Марий Эл облик европейского города со своим имиджем и особенностью. Здесь мой дом и семья. Здесь выросли мои дети и подрастают внуки. Сейчас, бывая в разных регионах России и других странах, сравнивая благоустройство территорий, архитектуру и различные коммуникации городов, надо признать, что Йошкар-Ола достойно выглядит в ряду самых красивых городов.
Все эти годы, проведённые в Марий Эл, я не забывал о своей малой родине, где прошло моё детство. В тридцати километрах от небольшого города Никольска Вологодской области стоит наша деревня Подольская, где жили мои родители, деды и прадеды. Деревня стоит в чудном по своей красоте месте, на берегу речки Шарженьги, в которой, на удивление, водятся ещё настоящие раки, пусть не такие крупные, как в детстве, но водятся.
Никольск тоже преобразился. Во времена моего детства жители окрестных деревень называли его уважительно – Город. Если нужно было побывать в райцентре, то говорили: «Поехал в Город». Тогда на улицах не было асфальта, а тротуары были деревянными и довольно узкими, но здесь была «городская» атмосфера: женщины ходили в платьях, а не в деревенских сарафанах, работал рынок, парикмахерская, ателье, в киоске можно было купить мороженое, а по субботам в парке молодёжь танцевала под радиолу.
Главным транспортным узлом района был аэропорт – здесь всегда было многолюдно, а с билетами – постоянные проблемы, особенно в летнее время, и знакомство с кассиршей аэропорта считалось необходимым и престижным.
Сейчас уже и не подсчитать, сколько раз я взлетал и приземлялся в качестве пассажира с Никольского аэропорта. Но прилететь – это ещё полдела. В распутицу автобусы не ходили, да что там автобусы, в дождливую погоду в некоторые деревни можно было проехать только на гусеничном тракторе. Бывали случаи – на тракторе молодожёны в сельсовет регистрироваться приезжали.
В наши дни Никольск имеет все признаки цивилизации: асфальтовые дороги, облагороженная набережная, удобные, многочисленные магазины, современные частные коттеджи, которые образовали новые улицы. Молодёжь в свободное время может посидеть в кафе, а потребность в аэропорте и вовсе исчезла.
Это теперь из Йошкар-Олы до Никольска я могу проехать на автомашине за пять-шесть часов, а четверть века назад на такое путешествие необходимо было потратить не менее двух дней.
Как правило, ехали через Килемары, Шарангу, Тонкино, Урень и Ветлугу. Миновав Шарью, приходилось делать тысячекилометровый крюк через Кострому, Ярославль, Вологду, Тотьму, хотя до Никольска оставалось менее ста километров, но проехать эти километры не представлялось никакой возможности. Поэтому вместо пятисот километров, что составляет современное расстояние от Йошкар-Олы до Никольска, мы в те годы проезжали все полторы тысячи с ночёвкой в Макарьеве, в гостинице, располагавшейся в бывшем купеческом доме с узкими деревянными лестницами, резными колоннами и мраморными вазами, или в Вологде, в двухэтажном деревянном доме, где жила с семьёй моя двоюродная сестра Александра.
Дорога из Вологды до Никольска в те годы тоже была достаточно непредсказуемой. Встречалось всякое: ямы, не заметные после дождя, сколы и ухабы. Когда мы впервые ехали на своей машине всей семьёй в отпуск к родителям в деревню, в Никольский район, уже по территории Вологодской области, то машина несколько раз неожиданно сваливалась в ямы, заполненные водой. Тогда моя жена Лида, сняв туфли, выходила из машины и несколько сот метров на этом разбитом участке дороги шла босиком впереди машины, проверяя таким образом наличие больших ям. У детей это вызвало жуткий восторг, они хотели последовать её примеру, но я, конечно, не разрешил им делать это.
В наше время, после Шарьи мы мчимся в Никольск напрямую, не поворачивая на Кострому и Вологду, по хорошей трассе, а от Шарьи до наших родных мест остаётся совсем немного, что всегда радует моих детей и внуков. Они хоть и родились не на Вологодской земле, но с самых малых лет регулярно бывают в нашей деревне и считают её родной.
По обеим сторонам от шоссе стоит русский северный лес, в котором смешались нарядные берёзы, строгие ёлки, подтянутые сосны; среди них можно видеть ветки нежной рябины, безобидной ольхи, вездесущей осины, и всё это, обрамлённое кустами, мхом, ягодниками, составляет радугу северной природы.
А ведь нормальной дороги Шарья – Никольск до недавнего времени не было столетиями. Летом проехать было невозможно, а зимой грузовики проезжали по узкой дороге, но с наступлением весны любое прямое сообщение вновь прекращалось. Однажды зимой, будучи молодым специалистом, я вместе с отцом добирался из Никольска до Шарьи, где мы садились на поезд до Москвы. Отец через знакомых договорился, что рано утром водитель попутной машины заберёт нас в Кожаево, куда мы заблаговременно приехали и ночевали у родственников. Мы поднялись очень рано и выехали ещё затемно. В кабине грузовой машины было достаточно тесно, а дорога была очень неровной – сплошные ямы и ухабы. Ехали мы по так называемому зимнику медленно и в Шарью приехали ближе к вечеру, когда уже снова темнело. То есть ехали мы, считай, весь день.
Мне пришлось ещё раз проделать такой маршрут зимой, но уже в середине девяностых годов, когда я ехал на УАЗике из Йошкар-Олы в Никольск. Тогда я работал первым заместителем главы администрации Медведевского района Республики Марий Эл, у меня в распоряжении была служебная «Волга» и я на несколько дней поменял её на УАЗик, договорившись с одним из руководителей подведомственных структур. Водителя УАЗика я хорошо знал, он неоднократно совершал со мной поездки по району и республике. Из Йошкар-Олы мы с ним выехали в семь утра. В Павинском районе Костромской области выяснили, что до Никольского района сможем добраться только по зимней лесовозной дороге. Уточнив направление, мы двинулись дальше. Дорога, по которой лесозаготовители вывозили древесные хлысты на больших лесовозах, была совсем узкой. Сразу за ней был глубокий снег и густой лес. Меня беспокоило только одно: если будет встречная машина, как мы разъедемся? Но опасность нас подстерегла несколько иная. Дорогу нам перекрыл громоздкий грузовик-фургон. Он частично съехал с дороги и увяз в снегу небольшой канавы. Самостоятельно выехать он не мог. Требовался трактор. Уже вечерело (зимой рано темнеет). Мы решили, что попробуем объехать застрявшую машину, а затем возьмём с собой водителя грузовика, с тем, что он доедет с нами до лесопункта, недалеко от Пермаса, а там будет договариваться насчёт трактора. Но когда стали объезжать грузовик, колеса УАЗика увязли в снегу, под которым был лёд, и тот обломился. Более чем наполовину колеса УАЗика находились в жидкой неоднородной массе изо льда, снега и воды. (Это была то ли канава, то ли болото.) Попытки самостоятельно выбраться ни к чему не привели. На наше счастье, подъехал ещё один УАЗ. Он помог выбраться нашей машине, и мы всё-таки смогли объехать грузовик. Далее мы продвигались вместе, на двух УАЗиках, по вечерней дороге при свете фар. Водитель грузовика вышел из нашей машины, когда рядом с дорогой появились огни в окнах домов лесопункта. В Никольск мы прибыли поздно, но оставшиеся километры до родной деревни проехали быстро.
Исторически Вологодская и Костромская область очень тесно связаны, а вот нормальной дороги между этими областями на восточных частях их территорий никогда не было. Идея строительства дороги, соединяющей Никольск и Шарью, была выстрадана не одним поколением жителей. Более того, она соединила бы и другие города и населённые пункты, от Урени Нижегородской области до Котласа Архангельской области.
Мой друг и земляк Горбунов Геннадий Александрович рассказал, как осуществился замысел соединения хорошей дорогой двух соседних областей. В то время Горбунов работал главой администрации Никольского района и непосредственно принимал участие в инициативе строительства дороги.
В кабинетах Вологодской областной администрации знали, что Никольский район держится на заготовке древесины, но древесина в основном – низкосортная, предприятия по её переработке находятся в Шарье, и строительство дороги поднимет экономику обеих областей, поскольку у всех заинтересованных предприятий в разы вырастают промышленные объёмы производства.
Идею поддержали, но как убедить правительство России выделить финансовые средства на эту масштабную стройку? Вячеслав Позгалев, тогда руководитель Вологодской области, и сам проникся идеей строительства дороги. Поручил подготовить расчёты и письма Департаменту дорожного строительства Российской Федерации. Материалы были подготовлены, одобрены первым заместителем губернатора Плехановым Александром Николаевичем и лично Позгалевым, а затем переданы главному дорожнику страны Виктору Григорьевичу Артюхову, которого пытались убедить о важности данной дороги. Но Москва ответила отказом. На этом дело должно было закончиться, но Геннадий Александрович не успокоился. Поскольку губернатор больше не хотел терять время на неудавшийся проект и не желал это впустую обсуждать, Горбунов вновь и вновь заходил к первому заместителю губернатора Александру Плеханову. Это был руководитель-работяга, требовательный и жёсткий, но умный аналитик, умеющий просчитывать перспективу. Геннадий Александрович буквально настаивал, чтобы тот не отступался от идеи строительства дороги.
– Не получилось с первой попытки, значит, мы должны придумать что-то такое, на что Москва должна среагировать положительно, – повторял Плеханову Горбунов.
Не сразу, но идея возобновления рассмотрения проекта созрела:
– Надо грамотно подготовиться и направить материалы не от одной области, а от имени губернаторов четырёх заинтересованных областей: Костромской, Нижегородской, Архангельской и Вологодской областей, и вместе сходить на приём к Виктору Григорьевичу Артюхову.
Это предложение надо было сначала правильно донести до губернатора Позгалева. Вячеслав Евгеньевич оценил неординарный дипломатический ход. Началась подготовительная работа для организации обращения в правительство России: сначала на уровне заместителей губернаторов (телефонные переговоры, письма, документы), а затем были вовлечены и сами губернаторы. И дело сдвинулось! Осенью 1998 года в Никольск на вертолёте прибыл руководитель дорожного ведомства страны Артюхов Виктор Григорьевич. Он сам на месте решил оценить реальность и необходимость строительства дороги, в которой в конечном итоге заинтересованы многие регионы. Тогда это был момент истины. От этого человека зависела судьба столь необходимого для района строительства и надо использовать все приемлемые методы, в первую очередь показать вологодское гостеприимство. Известному в районе мастеру Александру Парфенову был сделан специальный заказ на изготовление двух деревянных ведёрных кадушек. Со всей округи собрали грибы, подобранные по размеру, красоте и качеству.
Опытный специалист-дорожник Виктор Григорьевич осмотрел предполагаемую трассу на месте и сделал своё заключение:
– Средства распылять не дам. Деньги выделим, только если вы сможете вести работы оперативно и построить эту дорогу за год. Начинайте прямо сейчас. Со стороны Шарьи (там уже есть насыпь) работают Костромская и другие области, с вашей стороны – только вы. Сдача вашего участка (14.7 км) и Шарьинского (25 км) – осень 1999 года. Требование – окончательное.
При посадке в вертолёт Виктору Григорьевичу подарили новые кадушки с отобранными, словно на выставку, грибами. Кстати, связь Артюхова с гостеприимной Никольской землёй сохранилась и после окончания строительства дороги. Впоследствии он всегда интересовался делами в Никольском районе и при случае передавал приветы.
У всех участников строительства после Артюховского посещения были развязаны руки. Работы начались без промедления. Проектная документация ещё была только заказана, а уже рубили просеку для дороги. Требовалось большое количество песка и щебня, а своих карьеров нет. Решения приходилось принимать часто авторитарно, а осторожничать, оглядываться и просчитывать последствия не было времени. Это того стоило. Дорожники на поступившие федеральные деньги приобрели новую технику, которая без выходных работала на трассе. Количество работников ДРСУ достигло 380 человек. Люди получали достойную зарплату. Налоговые поступления пошли в район и область полностью и без задержек.
Летом 1999 года в самый разгар строительства дороги Шарья – Никольск я с семьёй ехал в отпуск в родные места на своей машине, тогда у меня была обычная «шестёрка». Уже можно было проехать по новой трассе. Часто приходилось останавливаться и ждать, когда строители дадут возможность проехать, но эти задержки нисколько не раздражали – все понимали: скоро, совсем скоро здесь будет новая современная асфальтированная дорога. Всюду работала различная техника: бульдозеры, скрепера, краны, катки, экскаваторы, трактора и различные марки грузовых автомашин, в основном «Камазы». На этом строящемся участке дороги наши дети прямо из салона машины, через стекло подсчитывали – сколько единиц техники здесь единовременно занято. Насчитали свыше двухсот. А вдоль дорог стояли вагончики строителей, летние открытые кухни, заправочные цистерны и другое. Для нашего края это действительно была «стройка века».
Когда запланированные объёмы работ подходили к концу, в Никольск снова прибыл Артюхов. Высокопоставленный чиновник был доволен результатами работы. А у района уже новое предложение – давайте сделаем объездную дорогу около Никольска по направлению в Великий Устюг. И снова Артюхов дал добро. А это новые объёмы работ для никольских дорожников, строителей, автотранспортников. Таким образом, дорога эта позволила несколько лет получать дополнительные средства в бюджеты района и области и обеспечивала бесперебойной работой многие организации.
После сдачи в эксплуатацию ехать по ней было одно удовольствие. Ширина асфальтового полотна была не как обычно – 8 метров, а 11 метров. Ровное широкое шоссе, проходящее через лес, болота, речки, многочисленные холмы и угоры, соответствовало всем стандартам дорожного строительства. Впечатленный в то время красотой новой дороги, ведущей на мою родину, я даже написал небольшую новеллу под названием «Счастливый день».
В каждый свой приезд в родной район, он сейчас называется Никольский округ, я захожу к главе округа Вячеславу Панову, и тот мне подробно рассказывает о километрах других новых дорог, построенных в округе. Конечно, финансируется такое строительство, в основном, за счёт трансфертов, поступающих из области, однако это не уменьшает заслуг местных руководителей и дорожников. А помощь из областного центра – только во благо.
Пример тому – восстановление Сретенского собора в центре Никольска, который является символом города, но после пожара два десятка лет имел удручающий вид, несмотря на то что всё это время местные жители пытались собрать средства среди населения, но их было явно недостаточно. Новый губернатор области Георгий Филимонов понял, что значит для жителей города и района это историческое здание, и выделил необходимые средства для приведения внешнего вида собора в первозданный вид, чем сразу заслужил доверие и поддержку жителей всего района. Окончание реконструкции внешней части собора было столь значимо, что о Сретенском соборе был показан сюжет по российскому телевидению.
На вологодской земле помнят историю и чтут заветы предков. А заветы эти просты и понятны: любите землю, где вы родились, цените и берегите родительский дом, оставайтесь чистыми душой перед Богом и близкими, а достаток наживайте своим трудом. Преданность гражданина Родине, нашей великой России, приходит только через привязанность к малой родине. Это надо помнить самим и передать заветы предков детям и внукам.
Вологда – Москва – Никольск – Йошкар-Ола
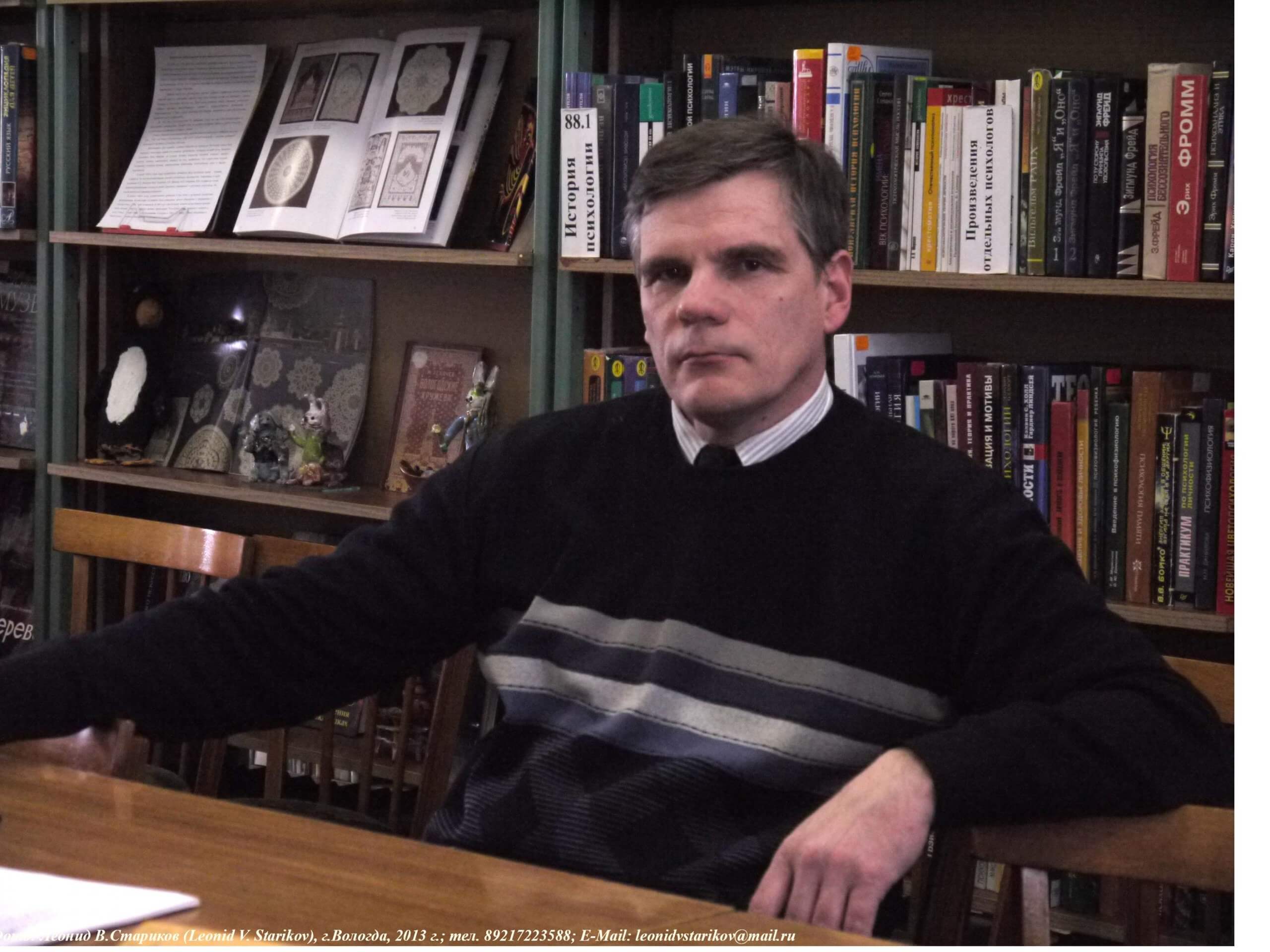
 2
2  99
99