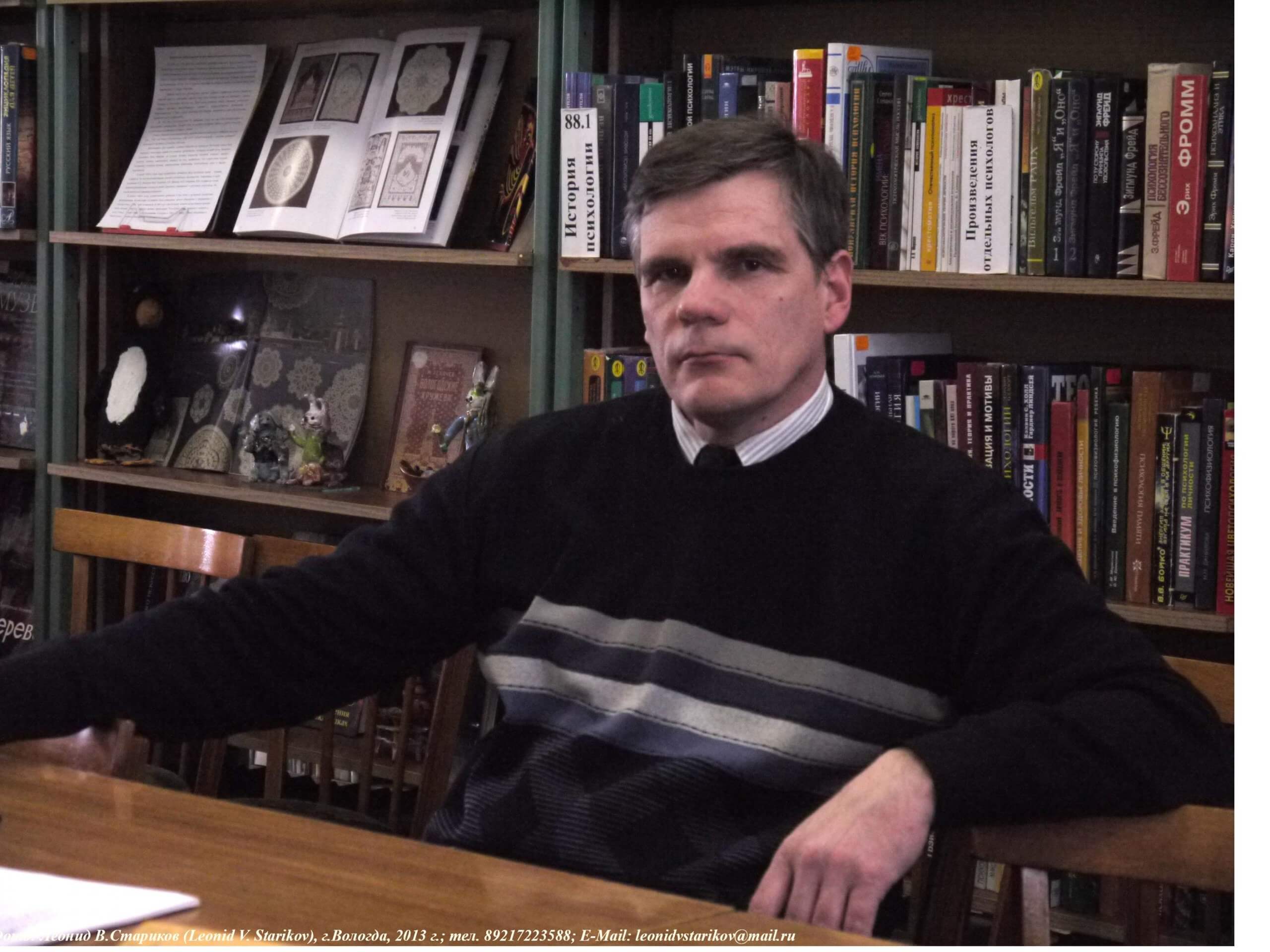Если бы знать, что ожидает нашу ровную советскую жизнь, если бы сам Господь насторожил нас на несчастную перемену и прочие бедствия, больше бы дорожили отпущенным благом, успели бы еще пожить в охотку, ничего такого, что не достанется запросто потом, не упустить, всякой всеми вместе нажитой привычной привилегией воспользоваться. О если бы, если бы…
Все в той потерянной жизни обходилось проще, неприхотливей, дешевле, можно было устремляться во все концы и нигде вдалеке не пропасть.
Теперь есть, о чем пожалеть…
Зря я не торопился, не объездил даже те земли, где меня приняла бы родня…
В Ташкенте жил брат отца Тимофей Федорович, который к братьям Степану и Петру ни разу в Новосибирск не выбирался; до войны и после войны подняться в дорогу из Средней Азии это целая история, хотя наши елизаветинские хохлы в Кривощекове не раз попадали в бригаду проводников, ездивших в Ташкент и Ашхабад и привозивших, помню, вкусный урюк. По отцу родня была не той заботливой дружной породы. что со стороны матери (ласковая, щедрая, никого из своих не забывавшая). С двоюродными сестренками и братишками я и виделся чаще и знаюсь до сих пор, а по отцовскому корню дружил только с тремя сестренками, любивших и жалевших «тетю Таню», мою матушку. В Ташкенте могла бы застрять моя биография, если бы дядя Тимофей не испугался, что я приеду поступать в институт и потесню его семейство: на жалобную просьбу мою он не ответил. И может, к лучшему. Не было бы у меня Тамани, Пересыпи, не написал бы я роман о Екатеринодаре и не встретил в хуторе у речки Псебебс моих спасителей Терентия Кузьмича и Марию Матвеевну , о которых мой первый рассказ «Брянские». И уж ни за что не переехала бы из Сибири в Ташкент или в Ургенч моя матушка.
Ашхабад, Душанбе, Алма-Ата промелькнули для меня только в разговорах и в литературе.
Да и в Тбилиси не проскочил я покопаться в архиве в фонде царского Наместника на Кавказе. И поездом Симферополь-Баку не прибывал я к азербайджанским писателям А в Махачкале не посидел на вечере Расула Гамзатова и не постоял там, где князь Барятинский встретил пленного Шамиля.
Все откладывал и надеялся на другие дни. Вся земля общая, успею.
А потом уж, когда после ельцинского переворота стакан чая на вокзалах стоит сто рублей и всюду можно было ожидать разбоя , много не наездишься.
Но и поздно уже, мои сроки прошли.
Самая короткая моя дорога в Пересыпь и в Тамань.
У гирла, вытекающего из Ахтанизовского лимана и впадающего в море, сижу я среди чаек , разгребаю ракушки и с кем-нибудь далеким разговариваю. Мне легко кого-то приплетать к себе Побуду с одним, перемолвлюсь вдаль словцом ,подцеплю другого, нынче со мной ты, так послушай, как ворочаются волны, вбрасывают ракушку, за день нагребут целую горку. Я один, со мной только чайки – над водою, на песке. Впереди, к востоку, с гравюрной четкостью виден холмистый край Голубицкой, именно там белый маяк, от которого я, приближаясь, всегда приветствую душой Пересыпь и лукоморье. А на западе под тучами гнется серпом Кучугурский берег и за мысом, если стать там на круче, можно разглядеть Керчь. Повернусь к востоку – подумаю о нашем нежном зауральском писателе в сосновой деревне у Тобола и протянусь в Сибирь, к родным берегам Оби.
А нынче ты, мой быстроногий вятский летописец, перебираешь со мной мокрые ракушки.
Ты скачешь по белу свету как молодой, двенадцатый раз падаешь на колени у Гроба Господня и еще подаришь мне книжки о пядях земных и «море житейском». Я же с тростинкой хожу вдоль воды и хрустят под моими подошвами ракушки.
Никуда далеко не выбираюсь, самая длинная моя дорога – сорок верст, в Тамань. Вчера там был. В той, голубчик, Тамани, где построил монастырь преподобный Никон, где (уж позволь напомнить тебе лишний раз) вытеснялись век за веком греки, татары, черкесы, енуэзцы, турки, где Суворов пил чай с запорожцем Захарием Чепигой, а легкий молодой Пушкин постоял мгновение на круче, печальный Лермонтов невзлюбил слепого мальчика, где высаживался на берег по пути в Екатеринодар Александр Второй и ночевал, может, в какой-то хате, в той самой Тамани, где спустя много десятилетий нечаянно, но только для тебя одного возникла девочка Надя и притянула тебя однажды за руку полюбоваться горою Лыской и Керчью, в этой, о Господи, Тамани не пристают уже четверть века к берегу катера и не качаются на волнах лодки рыбаков и столько же не плачет у морской камки та самая девочка, которую ты выманул в Москву навсегда.
Вы не пишите мне из своего знаменитого Камергерского проезда, не вспоминаете меня и мои пересыпские углы.
А я нет-нет, да и полистаю твои страницы.
Нынче целый день ленился во дворе, разговаривал с матушкой, перечитывал ей письма из Топок, Запорожья и Петрозаводска, перебирал и раскрывал книги.
«В Вифлееме, — пишешь ты, — я жил целых десять дней. Как же я любил и люблю его! И какое пронзительное, почти отчаянное чувство страдания я испытывал, когда во второй раз завезли нас в Вифлеем на два часа. Да еще и подталкивали: скорей! скорей!»
Я тоже бывал в Вифлееме спускался к яслям Христовым на одно мгновение .
«К счастью, — пишешь, — я много минут был один-одинешенек у Вифлеемской звезды, у яселек».
А я был в маленькой толпе писателей, и в то мгновение не понравились мне наши знаменитости: они постояли и поглядели на все как туристы, не крестились, не подползали на коленях к звезде – такая была на лицах привычная ученость, усталая мудрость, будто они сами явились из древности, звезду в небесах заметили раньше пастухов и в сей миг ждут почтения к себе. Неужели игумен Даниил в ХII веке, описавший свое х о ж е н и е в Константинополь и Иерусалим, был темнее и достоин «милостивого снисхождения» просвещенной братвы? Не поленился, отыскал его томик.
<…>
Видел ли ты в двух верстах от Вифлеема «заброшенную часовню в масличной роще» во имя ангела – благовестника? О ней пишет Фаррар, его тяжелый том «Жизнь Иисуса Христа» я разворачиваю в канун святых праздников… Отчего так? У Фаррара и в старых книгах о Святой земле рисунки, гравюры, первые фотографии украшают мотивы священных преданий с какой-то чудесной допотопной ветхостью и так чутко притягивают к Богу, к молитве, что весь как-то мигом смиряешься, вздохнешь, поклонишься равнинам Галилеи и Иерихона, заложенным окнам церкви Гроба Господня, холмам и низинам с библейскими овцами.
Теперь, в тесноте цивилизации, трудно собрать чувство как в старину.
Разе что в позднюю осень пустота намекает на нетронутую песчаную округу (где нынче Голубицкая и Пересыпь), вечно одинокую в те стародавние времена , когда греки плавали мимо по Меотиде и из Ахтанизовского лимана выгибалась протока пошире нынешнего гирла.
Я у гирла-то и вспоминаю тебя, держу твою паломническую книжку «Незакатный свет». Чайки в кучке белеют грудками и будто следят за мной. Никого! Пустота в море и в небе, и, кажется, за высоким берегом в поселке все вымерло. И эта мелодия тысячелетней пустоты в этих окрестностях слышна мне.
Но что я тебе посылаю свои вздохи? – ты далеко-далеко от меня и ничего не угадываешь, и зависти моей не чувствуешь. Все-то ты повидал, всему поклонился, крестики освятил, камешки подобрал и там, где крестили княгиню Ольгу (в Айя-Софии), предполагаемый уголок облюбовал, а я, бедный, лишь чайкам читаю твои признания: «Прощай, Стамбул! И да живет в наших душах Царь-град, столица Византии, город храма Святой Софии, Влахернской иконы Божией Матери…»
А еще я не забываю, что ты по девять часов стоял на молитве в Пантелеимоновом монастыре с монахами, двенадцать раз падал на колени у Гроба Господня, босиком шел к Иерихону.
Здесь у гирла я начал писать в тетрадке о поездке писателей на Север и после первой странички не могу стронуться дальше. Нет подходящих слов. Все затаенно – дорогое остается тонкими волосками в тебе, тянется долгим напевом. Слова убоги.
Теперь, после того, что случилось в нашей стране в конце века, отражается во мне какая-то другая жизнь, поездка наша кажется прощальной, и потому прощальной, что больше такое не повторилось, хотя до ельцинского переворота начислялось еще целых десять лет. Так много утекло воды и столько из той компании покинуло божий свет, что мне теперь горько выбирать мгновения, жалеть, что их больше так не прожить. Вот на Ленинградском вокзале появляются писатели-«деревенщики» и радуются друг другу как родственники: Сергей Павлович Залыгин, Виктор Петрович Астафьев с Марьей Семеновной, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крупин, Виктор Потанин, Анатолий Ким, Владимир Личутин, Владимир Гусев, Владимир Коробов, Борис Романов, добрый покровитель русских почвенников Валерий Ганичев и еще кое-кто. В Петрозаводске и Мурманске пристанут к ним Д. Балашов, В.Бондаренко, В. Маслов.
И это я, бывший школьный учитель под песчаной Анапой, в сей честной компании?
Теперь только восклицаю: о как посчастливилось!
Рассказ «Брянские» и повесть «Люблю тебя светло» вытянули меня в писатели. А то так бы и забили меня в школе ученические тетрадки и педсоветы.
Так бы и не пристал близко к Распутину, Астафьеву, Белову, Балашову, Олегу Михайлову, вообще никогда не послушал бы их за обедом, на прогулке. А что уж говорить о писателе из зауральского села Утятка, о моем окрещенном тесными узами Викторе Потанине, который о чем-то спросил меня в издательстве «Молодая Гвардия», да так и не переставал спрашивать десять лет. Мы с ним поместились в одном купе с Астафьевыми; Марья Семеновна сказала: «ну, вот аж три Вити у меня стало, а то был один, да и тот стал надоедать». И мы как-то семейно захохотали. Так же по-семейному расселись трапезовать, к нам добавилось еще человек пять, сплотились бок о бок, и началось. И вот не воскресить этого! Ни речей, ни гогота, ни лиц не закрепилось механическими секретами. И строчек в тетрадках, в блокнотиках не спряталось ни у кого. Мало дорожили мгновением? Жили и жили. А что запомнилось – теперь как золотая песчинка. Даже такое: ночью я слез со второй полки и не мог повернуть рычажок в двери; Астафьев услышал, поднялся, дернул ручку и выпустил меня. Мне было неловко, что разбудил …старика. А было ему всего пятьдесят семь. Недавно одолел я восемьдесят. И то, как я когда-то неловко разбудил Виктора Петровича, нет-нет, да и привидится мне и я загрущу на мгновение.
Утекли годы водою. Какую-то другую жизнь застали мы. Поездка на Север кажется нынче прощальной, именно кажется, потому что ничто не предвещало крутых перемен и катастрофы.
То был наш счастливый дружеский миг на земле. Расставание будет не скоро. Миг был в Мурманске, в Апатитах, Североморске, Кандалакше, а раньше всего в Петрозаводске, где я обрадовался появлению Дмитрия Балашова. Володя Бондаренко, больше известный в Малом театре, чем в литературных кругах, позвал на обед к родителям. Я ждал Балашова. И он возник на пороге, низенький, в сапогах, похожий на русского князя в учебниках истории. Толстые свои романы писал он за одну зиму, жил в деревне, держал корову, лошадь сам косил траву, срубил избу. Я его побаивался. А вот Астафьев на него как-то привередливо косился, чем-то он стал ему неугоден, может, даже этими вот мягкими сапогами, пояском на рубахе, невниманием к литературной знатности Виктора Петровича. В комнате с книжными полками он вынимал какой-нибудь томик и ставил назад, вынимал, взглядывал и хлопал корочкой, наконец вытянул сочинение Балашова, укрылся от нас у окна, перелистывал, читал с подозрением. Тут громко вошел сам Балашов.
— Все знает князь Димитрий, — сказал Астафьев. — Умноглазый Балашов слушал так, будто говорилось не про него. – Он и в Царьграде как свой, все углы Айя-Софии обсмотрит и патриарху Филофею руку облобызает так умело, что мы, чалдоны, позавидуем и через пять веков. Откуда такое? – Астафьев как-то нарочно разыгрывал удивление, а Балашов все смотрел в пол. – Вон ему сам Мамай сказал, что станет вторым Батыем. Все знает и пишет аж залюбуешься: как это можно подсмотреть и подслушать через целые столетия? «Князь Дмитрий сидел у себя в спальне рядом с Дуней, а та навалилась ему мягкой грудью в колени и плакала». Да не было ли такой Дуни и у автора?
— И не одна, — признался Балашов строго.
— «Он…- послушайте, — посопел, потоптался, шагнул, привлек ее к себе, мохнато поцеловал в лоб». Это когда вы так м о х н а т о целовали и кого? Пойду-ко и я свою Марью поцелую, — съерничал Астафьев и рукой приобнял невозмутимого Балашова, повел к столу.
А я задержался и снял ту же книгу, прямо распахнул ее. И…
«Все эти люди умерли, от большинства из них даже не осталось могил. Ражие посадские молодцы, румяные девки состарились и сгинули тоже. Много раз сгорали и возникали вновь хоромы. Исчезали деревни. Все они нынче в земле, и мы не ведаем больше того, что скупо отмечено летописью, не знаем сказанных слов и только можем догадывать, о чем мог говорить князь, воин, девица..»
Я как раз писал роман о Екатеринодаре, и та же мелодия сожалений прокралась в мою душу.
Я слышал, как в другой комнате за столом Балашов ругает Петра Первого, а позже , когда вошел , услышал уже: «А теперь и на Севере того нет… Я вчера написал про теремных затворниц, про страсти их тайные да про то, как с одного слова ласкового, походя сказанного, с одного взгляда, с шутливой перебранки за углом бани девица приготовилась ждать (да не один год) того, кого почла своим, вечным».
-Так мы и выпьем за возвращение теремных затворниц! – сказал я, и все ахнули в поддержку.
А может, я уже выдумываю? Тот застольный миг тоже растянулся дымом, исчез; легче Балашову было описать баб за прялками при татарах, чем мне петрозаводское застолье тридцать лет назад.
Я следил за одним Балашовым. Он спрячется в своей деревне, в Москве я его не увижу, а страсть как хочется послушать его, такого редкого русича, который живет древностью и сегодняшним днем и чем-то выше нас, не знающих толком ни Владимира Мономаха, ни Ивана Калиту, ни Сергия Радонежского. Только через девятнадцать лет его убьют под Новгородом, где я еще раз видел его на спектакле в Юрьеве монастыре, и плясовом гулянии с народом и у него дома за трапезой… в славные дни празднования 1000-летия Крещения Руси. Уже после смерти матери, в декабре 99-го, пил я с ним чай в подвале нашего Союза писателей в Москве, и он обещал будущей весной пожаловать в Тамань, и в январе я начал писать ему напоминание, но тут его и не стало. Что-то такое дивное, неожиданное высказывал он тогда за чаем, но всю эту редкую вязь слов я не записал, а после мне не хватило дара восстановить. Жалею и по сей день, что не постоял Дмитрий Михайлович на той круче, которой Пушкин видел Керчь (Корчев ).
Да и все годы как-то пусто без него на самых опасных пядях сражений. Равняю в жалости к нему судьбу его с судьбою Василько Теребовльского, князей Бориса и Глеба; и убил его, может, такой же Святополк. Помню, как я по-детски горевал, когда упоминал в «Осени в Тамани» о Васильке. Не тогда ли Господь вывел меня за руку на тропу сочувствия несчастливым кубанским казакам и прислал ко мне кроткого Попсуйшапку?
Балашову показал бы я береговую долину в Пересыпи, повез за Ахтанизовскую на Гору Бориса и Глеба, услышал бы от него то, чего никто мне теперь не скажет, погадал бы с ним, где преподобный Никон основал монастырь, спустил бы его в наш погреб, нацедил холодного вина, а матушка постаралась бы нас покормить и потом, спустя время, спросила бы меня: «Так он чо – тоже писатель? больно лобастый». Не случилось.
Мы путешествовали по Северу, а матушка меня каждый день «сопровождала», чувствовала, как я встречаюсь с тетей Пашей, даже присоединялась издалека к нашей беседе, радовалась тому, как бы и она поговорила со своей деревенской подружкой. Сорок лет не виделись они, тетя Паша уехала из Кривощеково в Карелию вслед за дочкой и больше уж им не увидеться на этом свете, и я каюсь, не догадался уговорить родню на поездку в Елизаветино. Всех собрать на один миг! Отец тети Паши Григорий записан в церковной метрической книге при крещении отца моего – Иоанна.
И больше я ничего не знаю. Все годы после ее отъезда я только и слышал жалобные возгласы матери, что нету теперь на болоте тети Паши, да читал письма из Карелии с причитаниями: как плохо привыкать после Сибири к чужому краю.
«Сообщаю, — повторяю я нынешним вечером за письменным столом строчки тягучим напевом, пальцем вожу по строчкам – что мы твое , Таня , долгожданное письмо получили, я была рада, что и не описать Мы были с тобою близкие подружи, а теперь столько лет не виделись. Мне уже 73 года. Было время, смеялись в Кривощеково, хохотали из-за всякого пустяка, а теперь все отошло, дождешься вечера, так скорей на койку. Вспомнишь, как мы жили в Кривощеково, сколько таскались с коровами, стояли на базаре за прилавком с молоком, варенцом, еще и успевали друг у друга посидеть, гостей принять. Ты пишешь, что никак не можешь забыть Сибирь, конечно, милая – трудно забыть, жизнь некороткая прошла там, и мать там схоронила, а теперь как привыкать без своей улицы и болота внизу? Один сын, и то не рядом. Значит, так Богом дано. Дядько Тышко в нашей воронежской деревне умер; к нам в эту зиму приезжали оттуда, много про кого говорили, ну… я уже некоторых забыла. Охота поехать… Жду Витю, едет с писателями, пусть к нам зайдет. Твоя Парасковья Григоровна».
Дочь Маруся приводила ее на станцию попрощаться и еще раз передать привет «подружке Тане». Старушка чистенько принарядилась, стояла моложаво-худенькая в плаще , на голове плотный платок, нос тонкий, на одном глазу крошечное бельмо. Я подвел к ней писателей.
«Мама выпрямилась перед ними как царица… — писала нам в Пересыпь Маруся, — руки скрестила на палке, они один за другим подходили с поклоном, каждый что-нибудь сказал вежливое, а Витя всех называл, ну прямо как Брежневу представляли маму, мы потом смеялись дома: «Мамо, это на вас не похоже, вы как царица Екатерина перед ними, вы ж не той породы и не начальство, чтоб так строжиться..» — «А как я? — отвечает. – Они подходят, я благодарю, я книг не читаю, но це ж Витины товарищи, пишут чего-то, так ладно, я здоровкалась, а один постарше сказал: «Я тоже сибиряк» — А я не сибирячка, я воронежская, кого выслали, а Лихоносовы, Витины мать и отец, сами поехали в Сибирь» — «Порода» — сказал Астафьев. — «Наша порода в деревне славилась. Осыкины. Осыкин пруд был. И Гайворонские. Лихоносовы похуже, их по улице называли Голычевы». Я, тетя, люблю книги читать, и рада, что увидела Астафьева, Белова. Белов сердитый, бурчит, сразу маму спросил: «сколько коров было перед высылкой». Распутин Валентин высокий, молчаливый, но добрый. Потанин, читала его повесть «Над зыбкой» и плакала, Личутин, росточку невысокого, разговорился, чуть на поезд не опоздали, Балашов наш петрозаводский, только посмотрел в глаза да так долго. а Крупин подарил маме иконку из Иерусалима, он там был. Мама была довольна. «Тане напишу, — сказала, — какие у Вити хорошие друзья. Витя один у нашей родни выучился на писателя. Слава Богу. А был ну такой смирный, слова не допросишься».
Матушка много раз перечитывала письмо из Петрозаводска, уходила на огород и там продолжала переговариваться с тетей Пашей, тихонечко жаловаться на свою долю.
В дневнике моем сказано, что я дописывал главу, в которой Попсуйшапка рассказывал в поздние годы Толстопяту о смерти его сестры Манечки. К дню рождения Лермонтова я поехал в Тамань, оттуда в греческое село Витязево к дочери знаменитого атамана станицы Благовещенской Константина Юхно – еще раз расспросить, еще раз понадеяться на что-то чудное, еще раз помянуть всех, кого давно нет.
У гирла всегда поджидали меня сгорбившиеся чаечки.
Я и нынче с ними. Перебираю ракушки, читаю, пишу и гадаю не ходит ли сейчас босиком в Вифлееме мой вятско-московский дружок?
Он сейчас не слышит, как я с ним любезничаю вдали, но когда-то, если допишу свои слезные страницы, прочитает. Будем мы уже старенькими. А не читает ли меня московский вятич в те же часы где-нибудь в своей деревне, как я у гирла в Пересыпи? Вот они, его строчки: «Четыре места на белом свете, где живет моя душа и какие всегда крещу, читая вечерние молитвы. Лавра, преподавательская келья. Никольское. Великорецкое. Кильмез. Конечно, московская квартира».
А что у меня, кроме гирла? На дорогих углах моих топчусь я на всех страницах. Аминь.
(https://ruskline.ru/analitika/2020/10/28/vethaya_tishina_u_girla)

 1
1  134
134