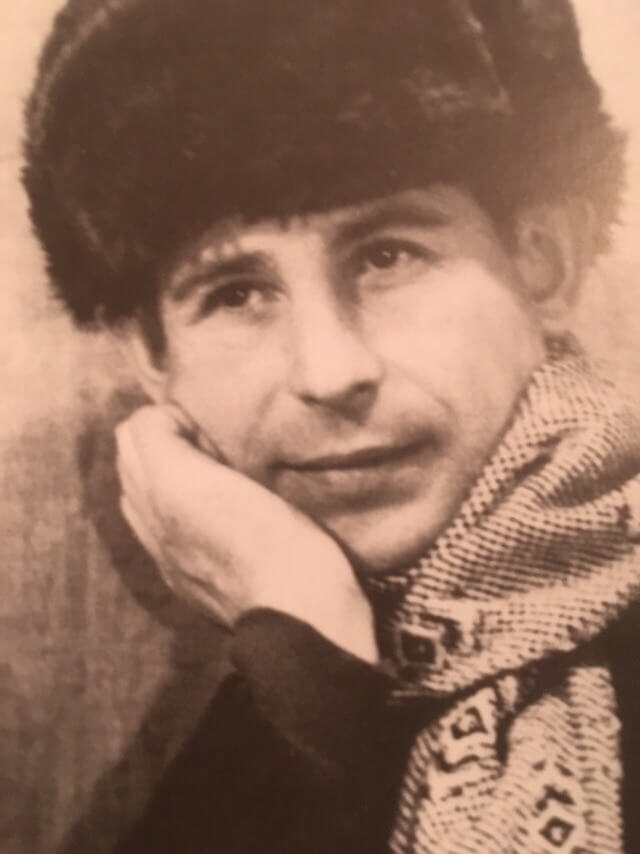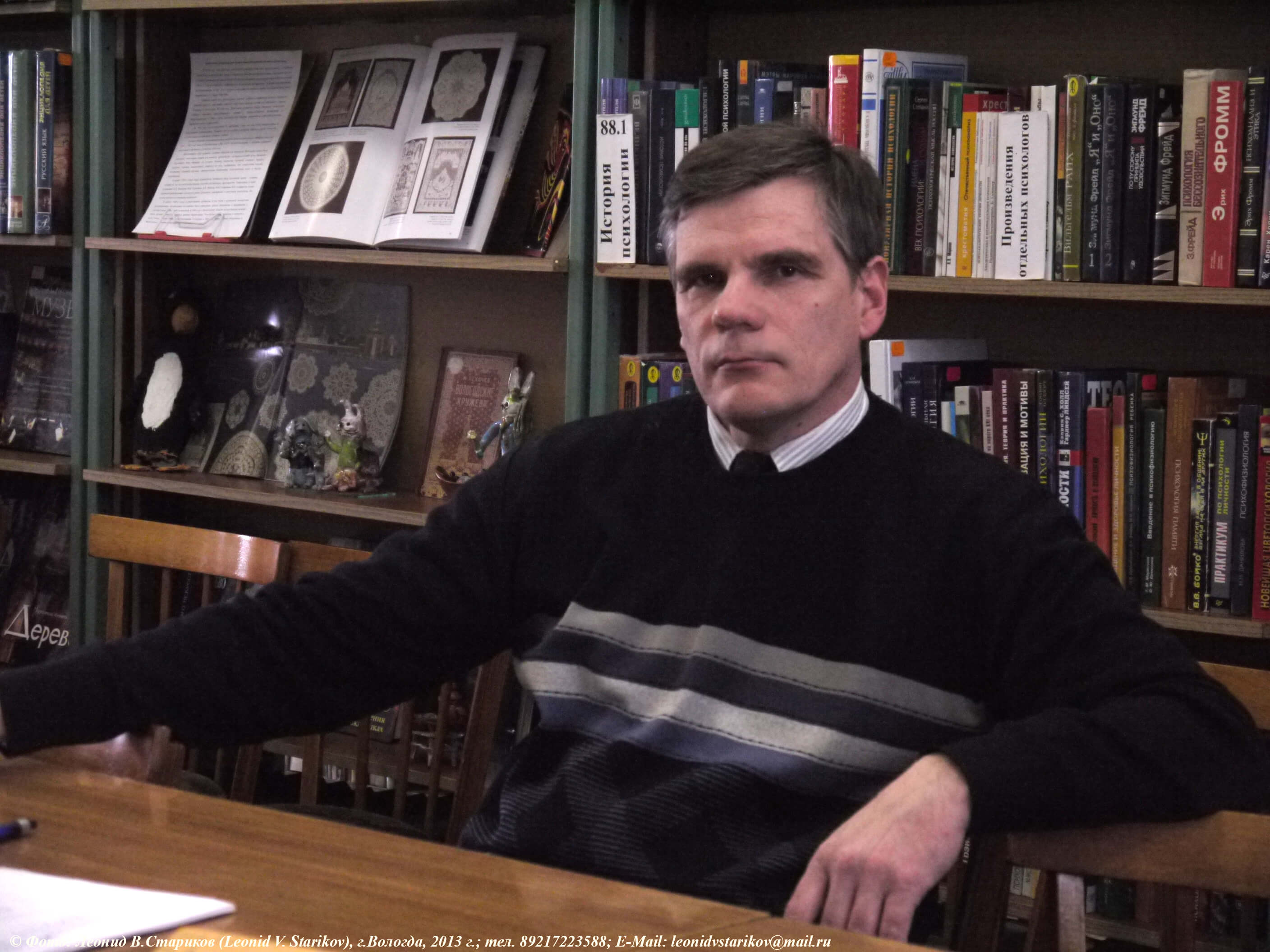ШАРИК. О тех, кто был на войне . Рассказ уцелевшего
Дым. Берлин. Отдельные выстрелы, за которыми вот-вот наступит и передышка, а то и сам отдых, как друг, обнимающий всех, кто устал от войны.
Колотов и Барбосов были в дозоре. И вот возвращаются в часть.
Город в тягостном ожидании. На улицах там и сям кирпичные свалки, висящие вниз полотнищами знамена, Гитлер в раме, чья-то нога в сапоге и танк, споткнувшийся на двух тумбах.
Неожиданно взрыв. Из нижнего этажа, где квартира, словно из ада, вылетела кровать. Матрас с нее, ударив плашмя по бойцам, распластался около мостовой. Колотов устоял, а Барбосов свалился. Лежит не на голой земле, а на вздыбившемся матрасе. Лежит, как на отдыхе, не сознавая того, что его уже нет, а может и есть, да попал в новый мир, и сейчас ему всё как-то даром.
Колотов в панике. В то же время – в недоумении. Смириться с тем, что товарищ твой в эту минуту в объятиях смерти, он не хотел и не мог, потому и лицо его отуманило, выставляя наружу протест. Как-никак, но война сдружила его с земляком. Оба из Тотьмы, встречались порой на Сухоне, как рыбаки, плавали вниз на лодках за волнушками и брусникой. А на войне и тем паче держались друг возле друга, как земляки, и как те, в кого пуля не попадает. Всю окаянную вместе. Вместе мерзли в окопах. Вместе ползли под огнем. Рядом с ними всегда была смерть, прибирая в первую очередь обреченных. Они же были, видать, другие. Поэтому и живые. Жизнь была для них, словно сказка, а может и, как подруга, какую не делят. Колотов вдруг смутился. Нехорошо считать себя лучше тех, кто остался в земле. На войне перед смертью все одинаковы.
Долго морщился Колотов, не зная, что ему делать. Мешали обломки кровати и стульев, на которых он прикорнул. Мешал и плач маленького ребенка, доносившийся из пролома.
И тут он увидел матрас. Отодвинув Барбосова, повернул его на спину. Но тот почему-то не повернулся. Лежал в какой-то неловкой позе. Колотов даже подумал: «Сойдет. Солдату везде удобно.…» И улегся с ним рядом, слегка притрагиваясь к нему.
Вроде немного поспал. Мог бы продолжить свой сон. Но разбудило тихое тиканье. Открыл глаза, а над ним — полусогнутая рука. На руке – мужские часы. Волнуясь, он чуть приподнялся, снял часы, положив их тут же в карман своей гимнастерки. Шепнул самому себе, успокаивая встрепенувшуюся вдруг совесть: «Зачем они ему там, где время остановилось?»
И проспал бы, пожалуй, он до утра, да услышал, как из кармана его гимнастерки кто-то вытаскивает часы. Открыл глаза, полагая увидеть шустрого мародера. Однако над ним покачивалась голова в пилотке. Барбосов!
— Ты – чего? Ты – чего? – Колотов хлопнул себя по плечам, по тому и другому, словно сгоняя двух бесов.
Барбосов вздохнул:
— Я это, я. Как видишь, живой. Контузило, видно, меня, потому я, как шарик, и выкатился из жизни. Слава Богу, хоть ненадолго.
Колотов посмотрел удручающе на часы, хотел было что-то сказать. Но Барбосов не дал. Сам сказал за него:
— Понимаю тебя. Часики-то швейцарские. Ты чего? Хотел, наверно, сберечь, абы кто их случайно не прикарманил. Мало, что ли у нас охотников до чужого? Но ведь и мне они пригодятся. Тем паче – это не просто часики, а подарок. От отца. Извини, что не дал тебе поносить…
Колотов что-то хотел объяснить. Да совесть остановила. Тем более было сегодня так тихо. Никто не стрелял. Нигде не дымило. И в узком пространстве меж двух уцелевших домов кто-то медленно поднимался, снимая с себя опаленную шаль. Это было румяное утро, освобождавшееся от ночи…
До конца войны оставалась одна неделя. Скорее домой! Скорее! – мечтали бойцы.
Колотов спал и видел себя на лодке, плывущей по Сухоне, где такой упоительный воздух, которым дышать и дышать, и никак им не надышаться. Где-то там его мама и бабушка. Там друзья, с которыми он учился. Там такое уютное солнце, которое всем, кто под ним, дарит жизнь. И вдруг всё это ушло от него. В последний день окаянной войны его убила шальная пуля.
Хоронили Колотова рядышком с теми, кто, как и он, мечтал остаться в живых. Барбосов встал перед ним на колени и, наклонившись, положил на грудь Колотова часы, сказав ему, как живому:
— До свиданья, дружок… Извини, что лежим не вместе…
 0
0  112
112