Поэзия Кузнецова до сих пор во многом остаётся загадкой. В ней удивительным образом сочетаются яркая (самим поэтом постоянно педалировавшаяся) индивидуальность и родовая всеобщность, которая, заметим, связана не только с национальной фольклорно-мифической традицией, но и с традициями западноевропейского искусства. Говоря предельно кратко, трудность понимания поэзии Кузнецова определяется неотчётливостью представления о взаимодействии в стихах поэта факторов символического и мифического порядка. Символ и миф появились у поэта не одновременно, прямой связи между ними не было, и на разных этапах творчества сочетались они в разных соотношениях. Эта проблема не учитывается ни критикой, ни академическим литературоведением: считается, что символ и миф у Кузнецова едины, если не одно и то же (12, 266; 13, 139 – 140). Доминирует в этом единстве миф, хотя далеко не все образы у Кузнецова (даже в период расцвета его поэзии) мифичны, и, кроме того, характер мифичности у него от стихотворения к стихотворению разнится. Нередко мифичность стихов поэта лишь структурный аспект поэтического символа, как, например, в стихотворениях «Елена» (1969) и «Европа» (1980). В отдельных ситуациях, – к ним можно отнести балладу «Седьмой» (1985), – мифичность (фольклорность) выступает планом выражения лежащих вне зоны действия дискурсивной речи личных переживаний поэта, поэтому она не является определяющей для образности произведения. Однако во всех этих случаях мы ощущаем могучую силу символа. Миф у Кузнецова есть скорее ментальный акт: он является способом варьирования символа, дающим Кузнецову возможность естественного перехода из индивидуального регистра в родовой и наоборот и (или) игры в обоих регистрах одновременно. Гораздо сложнее будет сказать, что для поэта символ.
В символе у Кузнецова сопряжены поэзия, судьба, трагедия народа и предначертание России: он и фокусирующая знание призма, и форма самого знания. И это сопряжение далеко не тривиальное. В автобиографическом эссе «Рождённый в феврале, под водолеем…» (1-я редакция – 1979 год, 2-я – 1990-й) Кузнецов писал: «<…>. Он (отец. – О.М.) погиб в 1944 году в Крыму. В моём детстве образовалась брешь. Это была сосущая загадочная пустота отцовского отсутствия, которую я мог заполнить только словом. Я много написал стихов о безотцовщине и постепенно перешёл от личного к общему. Я въяве ощутил ужас войны и трагедию народа. Ведь кругом почти все были сироты и вдовы. Я коснусь запретного. Мой отец погиб не случайно. Это жестокая правда моей поэтической судьбы. Если бы он вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умозрительной, я был бы ненужным поэтом; пошёл бы по боковой линии народной жизни, как обеспеченный генеральский сынок. Я бы неминуемо впал в духовное одичание метафоризма. Я недолго увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу. С помощью символов я стал строить свою поэтическую вселенную» (6, 17 – 18).
Этот пассаж цитировался исследователями не раз и не два; и не зря. Он очерчивает философско-эстетический горизонт поэтической биографии Кузнецова, но смысл его неочевиден. Слова поэта будет неправильно воспринимать буквально. Нужно учесть, что в этом эссе Кузнецов осмыслял свой творческий путь с позиций, на которые он вышел, найдя символ. Писать стихи Кузнецов начал, скорее всего, по причинам столь же банальным, сколь и таинственным, как это и бывает в детстве. Но к связанным с символом достижениям он пришёл именно тогда, когда «пустота отцовского отсутствия» стала его действительностью. Вот это-то и поразительно: непосредственно проговариваемая соотнесённость обстоятельств жизни Кузнецова и его родных и особенностей его поэтики. Переход «от частного к общему», который, по словам Кузнецова, был определён осмыслением безотцовщины, отнюдь не объясняет обращение поэта к символу. Между прочим, первый кузнецовский символ не имел отношения ни к теме отца, ни к теме войны вообще. Нужно ещё не упустить из вида, что в пору исканий поэта дорога к символу была скорее дорогой от метафоры. Путь Кузнецова в поэзию начинался как раз с головокружительного увлечения метафорикой: начиная с семнадцати лет он «всюду видел одни метафоры…» (6, 77). Стоит отметить, что в своих литературно-критических выступлениях Кузнецов чаще всего предъявлял претензии не Е.А. Евтушенко и не А.А. Вознесенскому, безоглядно разбрасывавшимся метафорами, а куда более скромным в этом отношении поэтам так называемого военного поколения и их предшественникам (Я.В. Смеляков и Л.Н. Мартынов). Строго говоря, отношение поэта к метафоре никогда не сводилось к однозначной неприязни, в нём были весьма тонкие нюансы. «Пустота отцовского отсутствия» – не причина поэзии Кузнецова, но обнаружившая в его жизни конфликт ситуация, которая определила, с одной стороны, отход от ещё вчера обожаемой метафоры, а с другой – движение навстречу неведомому символу.
Что это была за ситуация? Почему метафора вдруг начала смущать Кузнецова? Исследователи рассматривают процесс формирования поэтики Кузнецова в предельно упрощающей его художественный поиск перспективе, утверждая, что «путь поэта к символу и мифу – основным категориям его поэтики – начался с первых стихов о Великой Отечественной войне» (13, 139). Между тем вплоть до 1965 года, когда было создано стихотворение «Бумажный змей», в котором появился его первый символ, Кузнецов писал метафорические стихи. Более того, и в «Бумажном змее» символ практически не ощущается: на первый взгляд, стихотворение составляет цепочка метафор. Символ станет виден, когда поэт начнёт использовать миф и его отражённую в фольклоре образность. Однако в мифологических символах Кузнецова от метафоры не остаётся и следа. Эта динамика показывает, что символ формируется у Кузнецова в процессе преодоления метафоры или, точнее, её трансформации, очаг которой находится в самой метафоре.
О непростом пути к символу, пути, уводившем Кузнецова от метафоры всё дальше и дальше, рассказывает поэма «Золотая гора» (1974). Поэму предпочитают вспоминать лишь в связи с непочтительно-дерзостным отношением поэта к классикам, хотя это не играет какой-либо роли. В «Золотой горе» путь к символу представлен образами фольклорно-мифического характера, дающими перспективу, в которой обозначен исход кузнецовского метафоризма. В семнадцать лет в герое поэмы просыпается душа, то есть именно тогда, когда, по воспоминаниям Кузнецова, он начал видеть «одни метафоры»; он получает «извет» о Золотой горе – обиталище великих мастеров и покидает родной дом. Уход героя из дома, написанный с огромным драматическим накалом, является, безусловно, отсылкой к истории отношений Кузнецова с матерью, и на это стоит обратить внимание. На пути к Золотой горе герою выпадает три испытания, которые, как можно догадаться, указывают на вехи поэтической биографии Кузнецова. Однако последнее испытание герой пройти отказывается, тем самым нарушая логику эпического (сказочного) сюжета: «<…>. / Подался вспять и мох соскрёб: / «А супротив любовь». // Но усомнился он душой / И руку опустил / На славы камень межевой / И с места своротил. // Открылся чистым небесам / Тугой клубок червей. / И не поверил он глазам / И дерзости своей. // Из-под земли раздался вздох: / – Иди, куда идёшь. / Я сам запутал свой клубок, / И ты его не трожь. // Ты всюду есть, а я нигде, / Но мы в одном кольце. / Ты отражён в любой воде, / А я – в твоём лице. // Душа без имени скорбит. / Мне холодно. Накрой. – / Он молвил: – Небом я накрыт, / А ты моей стопой» (4, 351 – 352).
Все пути героя высечены на камне, который является могильной плитой его предка (отца): это пути, которые проходит юноша, становясь мужем, каким был его отец. Между тем в герое есть нечто, что делает невозможным для него третий путь. Герою ещё предстоит встретиться с любовью, но она станет для него осознанием своей полноты, а не испытанием. Очевидно, что осознание полноты может быть достигнуто только после того, как герой откроет тайну «межевого камня славы». Не приходится сомневаться, что разгадка тайны «межевого камня» – это момент обретение символа. Могильная плита разделяет героя и его предка (этот и иной мир) и, сворачивая её, герой устанавливает их единство – то единство, которое выражает символ. Это единство-символ становится пропуском героя на Золотую гору (неслучайно её бессмертные обитатели – поэты иносказания и символа: Гомер и Данте Алигьери). Любовь для героя поэмы выступает препятствием на пути к единству-символу; но если цель героя – олицетворяющий эпос символ, его сомнение в любви должно быть связано с отражающей любовные отношения лирикой, а конкретнее – метафорой. Косвенно на это указывает фигура А.А. Блока, стоящего у подножия Золотой горы среди разного рода подделок и бездарностей; по всей вероятности, поэт не был допущен в сообщество великих мастеров именно за свою (знаменитую) метафору: «Мелькнул в толпе воздушный Блок, / Что Русь назвал женой / И лучше выдумать не мог / В раздумье над страной» (4, 353).
Обретение символа стало главным событием поэтических исканий молодого Кузнецова. Наиболее содержательно поэт рассказал об этом в созданном в последний год его жизни эссе-исповеди «Воззрение» (2003). Разумеется, воспоминания о том времени несут отпечаток знания Кузнецова о символе и мифе, которое пришло к нему намного позже; тем не менее в них прекрасно передана многоцветная палитра чувств, пережитых юным поэтом в период близости к метафоре. Развивая свою поразительную мысль об отце, Кузнецов писал: «<…>. Если бы отец вернулся домой живым и невредимым, то трагедия народа была бы для меня умозрительным понятием, и я был бы другим поэтом, впал бы в духовное одичание метафоризма. Начиная с семнадцати лет я всюду видел одни метафоры. Казалось, ничего страшного. Народные русские загадки сплошь метафоры, но они – как бы живые. А мне то и дело попадались мёртвые, из которых можно было строить только условный мир, а не живой. Я хотел невозможного – реализовать метафору в одном прямом значении. Но в пределах метафоры это было безнадёжным делом. Эх, если б серп месяца косил луговую траву, как обыкновенный крестьянский серп. Вот было бы чудо! Так я мечтал. Переносный смысл метафоры – это призрак. Я хотел оживить призрак!..» (6, 77).
О подобном желании писал В.Н. Соколов, тогда ещё начинающий поэт, в стихотворении 1948 года: «Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева! // Чтоб из распахнутой страницы, / Как из открытого окна, / Раздался свист, запели птицы, / Дохнула жизни глубина» (9, 5). Несомненно, в основе представлений о волшебстве поэзии лежит детское чувство бесконечности времени, бесконечности, делавшей единство мира людей и мира природы реальностью человеческого существования. Вероятно, в пору своей юности поэты, и В.Н. Соколов, и Кузнецов, видели в метафоре приём своего рода бесконечного умножения времени. Веровали в это, мечтали, надеялись, хотели. Между тем, в отличие от В.Н. Соколова, Кузнецов довольно скоро признал ошибочность своих ожиданий, хотя это было нелегко сделать.
Важнейшими моментами истории отношений Кузнецова с метафорой выступают убеждённость в способности метафоры выражать «одно прямое значение» и открытие её непригодности к этому. Разочарование в метафоре свидетельствует, что в пору кузнецовских ожиданий чуда вложено в неё было гораздо больше, чем детское чувство. Для чего же поэт требовал, чтобы метафора выражала «одно прямое значение»? Непосредственного ответа на этот вопрос нет. Анализируя поэзию С.А. Есенина, – поэзию метафорическую, за одним-единственным исключением, которое и привлекло его внимание, – Кузнецов пришёл к выводу, что метафору можно «оживить» неким заряженным энергией символа экстрактом: «<…>. Оказывается, к метафоре нужно добавить нечто, чего в ней нет и быть не может. Метафора пропала – возник символ. К сожалению, больше таких удач у Есенина не было. Его метафоры только приближаются к символу, но не касаются его. Эта близость создаёт какой-то гальванический воздух, но всё-таки воздух этот мёртв. Значит, метафора способна, как мёртвая вода из сказок, срастить отдельные части в тело, но само тело остаётся мёртвым. Его может оживить живая вода, а она есть в символе и мифе. Я этого не понимал, но инстинктивно чувствовал. И тогда же написал стихотворение о детстве «Бумажный змей» – мой первый символ. Метафоры ещё года два преследовали меня, но я отмахивался от них «натасканной на образы» рукою. Я использовал эпические сравнения и параллели…» (6, 78).
История столь необычных отношений Кузнецова с метафорой определённым образом параллельна биографическому сюжету поэта. В том же 1965 году, когда у Кузнецова возник первый его символ и, следовательно, произошёл разрыв с метафорой, убедившись в бесплодности литературной жизни Тихорецка и Краснодара, он уезжает в Москву поступать в Литературный институт. Это решение больно ранило его мать; судя по поэме «Золотая гора», он хорошо это видел, но остался непреклонен: «Давно он этого желал – / И кинулся, как зверь. / – Иду! – он весело сказал. / – Куда? – спросила дверь. – // Не оставляй очаг и стол. / Не уходи отсель, / Куда незримо ты вошёл, / Не открывая дверь. // За мною скорбь, любовь и смерть, / И мира не обнять. / Не воздыми руки на дверь, / Не оттолкни, как мать. // – Иду! – сказал он вопреки / И к выходу шагнул. / Не поднял он своей руки, / Ногою оттолкнул» (4, 348).
Ровно через 20 лет, в 1985 году, Кузнецов напишет балладу «Седьмой», вероятно, самое шокирующее своё произведением; темой этой баллады он назвал «преступление сына перед матерью». В одном интервью, рассказывая о «Седьмом» и пытаясь смягчить производимое балладой впечатление, Кузнецов отметил: «<…> балладу «Седьмой» критика не поняла. Эта тема преступления сына перед матерью присутствует в фольклоре. Вспомните греческие мифы об Эдипе. К ней обращался в своих трагедиях Софокл. Да, баллада написана на жестоком материале. / И многие поняли её в бытовом плане. Но если так воспринимать литературу, то «Преступление и наказание» надо считать уголовной хроникой» (6, 122). Миф об Эдипе – далеко не очевидная параллель к «Седьмому» (ничего общего с мифом в балладе не ощущается); однако именно этот миф и позволяет понять замысел стихотворения. Как известно, Эдип совершил преступления – убил отца, царя Лайя, и женился на матери, царице Иокасте, – не по своей воле: они были проявлением неотвратимой судьбы, которой он вовсе не хотел покоряться. Именно судьбой объясняется изображённое в балладе преступление Седьмого, преступление сына против матери. История так трагически возвратившегося к матери сына – видение одного из семи мудрецов, следящего за взглядом во тьму Великого Сатаны. Это видение можно толковать по-разному, в том числе – и в плоскости политической истории России. Тем не менее внутренняя логика баллады даёт приоритет семейной трактовке видения. «<…>. / Шесть мудрецов глядят на свет, / Седьмой глядит во тьму…» (4, 270). Почему? Мудрость – посылаемый человеку дар, который он обретает в опыте существования, осуществление этого дара и есть судьба. Седьмой мудрец смотрит во тьму; скорее всего, тьма – это покров времени, скрывающий прошлое. Если это так, мудрость Седьмого мудреца соотнесена с его видением, в котором события его жизни предстают в таком именно виде. Видение изображает отнюдь не историю Седьмого мудреца; в образах этой истории, возвращаясь к прошлому, мудрец постигает свою вину перед матерью как знак всевластной судьбы. Судьба заставила Седьмого мудреца совершить какой-то оскорбивший его мать поступок, но через этот поступок и пролегала его дорога к предначертанной судьбой мудрости.
Если принять во внимание тот факт, что фокусом баллады «Седьмой» является тема судьбы – силы, которой обречён человек, можно будет предположить, что стихотворение Кузнецова имеет биографический подтекст. Косвенно биографический подтекст «Седьмого» подтверждает сделанное поэтом в эссе «Рождённый в феврале, под водолеем…» признание об отце. Процитируем его ещё раз: «<…>. Я коснусь запретного. Мой отец погиб не случайно. Это жестокая правда моей поэтической судьбы. Если бы он вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умозрительной, я был бы ненужным поэтом; пошёл бы по боковой линии народной жизни, как обеспеченный генеральский сынок…» (6, 18). Логика высказывания Кузнецова, и в этом нет сомнения, такова: смерть отца стала жертвой, которая требовалась для того, чтобы сын стал «нужным поэтом». Став «нужным поэтом», сын обрёл свою судьбу, а это значит, что гибель отца была предопределена судьбой сына. Совершенно очевидно, что высказывание Кузнецова об отце отвечает мифу о царе Эдипе – той части мифа, которая относится к рассказу об убийстве царя Лайя, отца Эдипа. Если считать, что Кузнецов рассматривал свои отношения с погибшим отцом через призму мифа о царе Эдипе, естественно будет предположить, что в балладе «Седьмой», отсылающей к той части мифа, которая рассказывает о женитьбе Эдипа на Иокасте, его матери, получили выражение отношения поэта с матерью. Мы полагаем, что в образности баллады «Седьмой» своеобразно преломились события 1965 года, вызванные отъездом Кузнецова в Москву.
Идею о параллельности художественных поисков Кузнецова и его биографического сюжета можно дополнить и со стороны отношений поэта с метафорой. Снова обратимся к уже известному нам пассажу из «Воззрения». Рассказывая о своём охлаждении к метафоре, Кузнецов писал: «<…> мне то и дело попадались мёртвые [метафоры], из которых можно было строить только условный мир, а не живой. Я хотел невозможного – реализовать метафору в одном прямом значении. Но в пределах метафоры это было безнадёжным делом. Эх, если б серп месяца косил луговую траву, как обыкновенный крестьянский серп. Вот было бы чудо! Так я мечтал. Переносный смысл метафоры – это призрак. Я хотел оживить призрак!..» (6, 77). Иначе говоря, пока Кузнецов писал метафорические стихи, его художественный мир был населён призраками; в какой-то момент поэт это осознал и вознегодовал, не желая мириться с этим, ещё недавно – комфортным, положением. Между тем мир призраков, в котором он прожил годы, и его негодование можно увидеть в одном из самых известных стихотворений Кузнецова – «Отцу» (1969).
В этом произведении, не признавая за отцом «права умереть», Кузнецов рассказывает об участи матери (а не своей, чего некоторые критики не хотят замечать даже сегодня (4), утверждая, что поэт писал о накопившихся у него за годы безотцовщины обидах): «<…>. // На вдовьем ложе памятью скорбя, / Она детей просила у тебя. // Подобно вспышкам на далёких тучах, / Дарила миру призраков летучих – / Сестёр и братьев, выросших в мозгу… / Кому об этом рассказать смогу?..» (4, 112). Образность этих стихов даёт основание считать, что живший без отца сын рос среди детей-призраков – братьев и сестёр, которые «рождались» у матери, продолжавшей жить с мужем в своей памяти. «Неполученное счастье», о котором сын горестно говорит на могиле отца, в том, что их, матери и сына, мир, созданный «пустотой отцовского отсутствия», оказался призрачным. Прежде чем в отчаянии упрекнуть отца, сын, наверно, не раз пытался оживить этот мир. Чем? Стихами. Метафорой. Стихотворение «Отцу» – несомненная параллель сложным отношения Кузнецова с метафорой. В силу определённых причин, которых мы коснёмся позже, вина за сыновний мир призраков была возложена на отца; однако, если следовать жестокой правде поэтической судьбы Кузнецова, о которой поэт писал в своих биографических эссе, ответственность за этот мир следует связать с матерью – с её заслонившей живую жизнь памятью о муже. Скорее всего верность памяти мужа и привела Кузнецова к конфликту с матерью – к тому преступлению сына перед матерью, которое поэт, сурово себя осудив, выразил в видении Седьмого мудреца. Этот конфликт очевидным образом параллелен совершенно неожиданно вынесенному отказу Кузнецова жить в мире порождаемых метафорой призраков. Неудивительно, что в 1965 году поэт покинул и мать, и метафору – уехал в Москву и создал свой первый символ.
Следует сказать, что распространённая среди критиков и литературоведов идея о генетической связи поэзии Кузнецова с памятью о погибшем отце (войне) является заблуждением; центральной темой ранних – до 1967 года включительно – стихов поэта является тема, которая под одним углом зрения может быть увидена как расставание с детством, а под другим – как встреча со взрослостью. В стихах этого периода Кузнецов писал о детстве как о поре беззаботной и совершенно счастливой, о мучительной тоске по тому прямо на его глазах уходящему времени и о вызванных приближением взрослой жизни страхах («Пускай останется во мне», «Весёлые годы ушли навсегда…», «Оскудели родные степи…», «Отсмеялись звонки, отзвенели весёлые песни…», «Трясутся ведьмы под стропилами от холода…», «Песня», «Начало», «Мечта», «Старик», «Бородач» и другие). Эти мотивы идут в разрез с брошенной в стихотворении «Отцу» фразой о «неполученном счастии»; но лишь на первый взгляд. Это потом мир сына наполнится летучими призраками братьев и сестёр – сначала в нём царило счастье. Об этом с ослепляющей читателя откровенностью Кузнецов писал уже в первом своём стихотворении об отце (1954 год): «Настала ночь последняя для многих, / Неясно слышен разговор бойцов. / Осколком мины прямо на дороге / Убит был подполковник Кузнецов. // Заплачут дети, мать их зарыдает, / И слёзы литься будут без конца. / Но детям что? Они не понимают, / Как будто вовсе не было отца» (4, 9). Тринадцатилетний Кузнецов с горечью писал о детском беспамятстве, но нельзя не признать, что это был его собственный опыт. Это «как будто вовсе не было отца» и заключает счастливую пору детства поэта: счастье было в матери – в её ни с кем не делимой любви.
Мать Кузнецова, Раиса Васильевна, отнюдь не отказывалась от попыток устроить свою жизнь – сойтись с мужчиной, который стал бы ей мужем, а детям – отцом; но по разным причинам они не удались. Между прочим, одной из причин, помешавших матери выйти второй раз замуж, был её сын. Сестра поэта, Авиета Поликарповна, вспоминала, что одно время за их матерью ухаживал некий мужчина из репрессированных. Этот человек отнюдь не был несимпатичен юному Кузнецову: он любил играть с ним шахматы. Однако когда мать обмолвилась, что собирается выйти за него замуж, мальчик выбросил из дому калоши этого мужчины и стал требовать, чтобы его больше не было в доме. И мать вынуждена была покориться воле сына (8, 22). Кузнецов не желал принимать новое замужество матери вовсе не потому, что берёг память об отце. Отца своего он не знал даже по чужим воспоминаниям; так, хранившиеся у матери отцовы письма военной поры он прочитал только в августе 1982 года (8, 4). Это была ревность. Сын ревновал мать к мужчинам, боясь утратить её любовь.
Перед Кузнецовым довольно рано встал вопрос, как писать об отце. В стихотворении «Надо мною дымится…» (1959), одном из первых подходов к отцовской теме, возможность письма об отце поэт связал со сновидением: «Я не помню отца, / я его вспоминать не умею. / Только снится мне фронт / и в горелых ромашках траншеи. / Только небо черно, / и луну исцарапали ветки…» (12). Нетрудно увидеть, что сновидение – не что иное, как метафора. То, что сын видит во сне, – метафорический перифраз стихов: «Мне в наследство достался / неувиденный взгляд усталый / На почти не хрустящей / фотокарточке старой» (12). Однако и самая действительность была метафорична: смотрящий на сына с фото отец обратился в неувиденный сыном взгляд отца. В этом стихотворении метафора выступает балансиром, удерживающим эмоциональное равновесие в поэте: нагнетающееся чувство «пустоты отцовского отсутствия» достигает выразительности стихов зрелого Кузнецова, но исход в метафоризм снимает взрывную остроту созданного образа. Это особенно хорошо было заметно в 1-й редакции этого стихотворения, в которой после слов о доставшемся сыну наследстве шли следующие стихи: «За рекою в степи, / как отцовские раны, / Молодые закаты горят, / освящая курганы» (5, 6). Вполне очевидная метафоричность стихов, превращающая образ страдающего отца (раны) в обещающую сыну некие перспективы картину ночной природы (молодые закаты), ещё не тревожит поэта своей призрачностью. О счастье нет даже и речи; и неудивительно, ведь оно с ним рядом. Это мать.
Когда время детства начнёт уходить в прошлое, Кузнецов тут же догадается, кому он обязан своим детским счастьем. Наследство ему досталось не только отцово, и то, что ему досталось от матери, было куда дороже. В стихотворении с лишь приблизительно показывающим суть дела названием «Школьное наследство» Кузнецов так писал о недавнем прошлом: «И в жизни нет корысти и событий. / Но мать стирает – нету рук красней. / Прищепки, разогнавшись, как собаки, / Рвут с треском двор – до белых простыней // Двор хлопает сырыми облаками, / И вижу я далёкий старый день. / На простыне – с воздетыми руками – / Тень матери – трагическую тень. // Гремит, гремит и крыш и листьев жесть / И железнодорожные полотна… / Мне обещают золотую жизнь / Педанты, для которых всё понятно» (4, 83). Мощное воздействие «пустоты отцовского отсутствия» Кузнецов по-настоящему ощутил, когда вдруг обнаружил, что мать стала жить памятью о погибшем муже – в ожидании его возвращения. В этот момент, задокументированный в ряде стихов 1965 года, например, в стихотворениях «Отец в сорок четвёртом», «Память» и «Последний вагон», Кузнецов пережил подлинное потрясение. «Из пустоты бежит прожектор криво / И вырывает наугад года. / Я снюсь отцу за два часа до взрыва, / Что станет между нами навсегда. // От той взрывной волны, летящей круто, / Мать вздрогнет в тишине ещё не раз. / Вот он встаёт, идёт, ещё минута – / Начнётся безотцовщина сейчас! // Начнётся жизнь насмешливая, злая, / Та жизнь, что не похожа на мечту!.. / Не раз, не раз, о помощи взывая, / Огромную услышу пустоту» (4, 70). Безотцовщина началась не в сорок четвёртом году; она началась сейчас – когда Кузнецов понял, что произошло в сорок четвёртом году. Эти стихи не об отце, а о сыне – его настоящем и будущем.
Отчуждавшие мать воспоминания об отце Кузнецов воспринял испуганно и обидчиво. В стихотворении «Память» мы видим не только жалость к матери, настойчиво возвращающейся в прошлое, но и мольбы сына – жить в настоящем. Его настоящим: «Не ходи ты, ради бога, мама, / К этому колодцу за войной! / Как ты будешь жить на свете, мама, / Обмороженная сединой? // Ты в тепле, зажав лицо руками, / Станешь слёзы медленные лить… / Будет обмороженная память / Через годы с болью отходить» (4, 71). Обернувшись к прошлому – к погибшему мужу, мать невольно отвернулась от сына. В стихотворении «Последний вагон» к непременно сопровождающему тему матери жалению у Кузнецова добавляются ревность и болезненная резкость. Мать изо дня в день ходит на вокзал – провожать мужа на фронт. Она не замечает, что на дворе давно уже мирное время и от прошлого не осталось следа. Но самое главное – она не замечает сына-поэта: «Когда из-за тех вон деревьев / кулик или поезд свистнет, / Безумная мать поэта / встаёт и спешит на перрон. / Безумная эта женщина / на шее солдата виснет, / Солдат на ходу цепляется / на самый последний вагон. // <…>. // Никто на земле не скажет, / куда этот поезд скрылся: / Живым болтать не пристало, / а мёртвым – воспоминать. / На рельсах бессмертник вырос, / на свете поэт родился – / Чего же ты плачешь горько, / чего же ты хочешь, мать?..» (4, 72).
Вот так и произошло расставание Кузнецова с детством; впрочем, детство-то как раз осталось, в прошлое вместе с матерью, погружённой в воспоминания о муже, ушло наполнявшее детские годы счастье. «Пустоту отцовского отсутствия» поэт изведал сполна, когда оказался в абсолютном одиночестве – когда мать соединилась в своей памяти с погибшим мужем и, покинутый родителями, он остался совсем один. Именно в свете опыта абсолютного одиночества отношения с матерью переданы в стихотворении Кузнецова «Параллель разлуки» (1966). В нём нет ни слова об отце, но в изображённой поэтом картине чувствуется воздействие «пустоты отцовского отсутствия». Стихотворение некоторым образом перекликается с «Последним вагоном»: там мать провожала мужа, здесь – сына. Но если с мужем ей была обещана встреча, то с сыном они не встретятся никогда: «<…>. / Не пересечься линиям разлуки. / И даже если тяжко станет мне, / Вернусь домой – она протянет руки, / Но блик её забрезжит в стороне» (4, 84).
Как могло возникнуть то больше уже не покидавшее поэта чувство одиночества? Ведь если отца своего он действительно никогда не знал, мать его была рядом. Почему же встреча их стала невозможной? Кузнецов очень точно написал, что они с матерью оказались в параллельных мирах. Мать заступила некую границу, отделяющую живущих в настоящем от живущих в прошлом, и стала недоступна, как погибший отец. Почти так. Мать соприкоснулась с реальностью иного мира, в которой существовал её муж: сын наяву видел мать, но по-настоящему она была там – с мужем. Однако это было ещё не всё. Глядя на живущую в воспоминаниях мать, сын проникал в ту реальность, где был его отец. Это – как бы отражающее – свойство образа матери замечательно показано в «Параллели разлуки»: «То потеряет, то опять заметит / В толпе мой взгляд родную мать свою. / Как исповедь, она стоит и светит / У длинного перрона на краю. // Блестит лицо. С размаху дождик лупит / Сквозь щель молчанья – всё быстрей, быстрей. / А за окном стоит, как блик от лампы, / Бегущий отсвет матери моей» (4, 84).
Мать предстаёт сыну в образе светоносной исповеди, бегущего отсвета, подобного блику от лампы. В контексте образа исповеди блик было бы точнее увидеть как огонёк стоящей перед иконой свечи, в отсвете которого преломляется символически обозначенная иконописным изображением реальность иного мира. Мать – исповедь об ином мире, который она познала, соединившись в своей памяти с мужем; обращённый к сыну рассказ об этом мире. Отчуждённая – но не чуждая! – мать становится для Кузнецова моментом обнаружения своего рода дыры (или щели) в стене, казалось бы – наглухо, отделяющей этот мир от иного. Мать-исповедь – это символ символов: символ, открывающий символическую природу вещей. Вызванное памятью о погибшем муже отчуждение матери от сына стало той почвой, на которой выросло представление Кузнецова о вещах-символах. Специфическая дистанцированность действительности в символе и предопределяет ту особенность стихов Кузнецова, которую впоследствии, по заблуждению или злонамеренно, критики будут связывать со склонностью поэта к эпатажу и скандальности. «Скандальность» – оборотная сторона являемого у Кузнецова в символе откровения, показывающего сплетения и разрывы этого и иного миров внутри их единства.
Обнаружение дыры в нашем мире привело Кузнецова в сильнейшее замешательство и вышел он из него далеко не сразу. В дыру оттуда сквозит ледяным холодом, давая знать, что тебя ничто не согреет, ибо ты один в этом мире. Поэт ищет дорогу к матери, согревавшей его своим теплом в детстве, и не находит. Так, воображая возвращение в родной город, Кузнецов пишет: «И ты услышишь мать, / что примет всё без шутки. / Она прикажет строго, / чтоб шёл домой скорей. / Ты побредёшь по улице, / не выпуская трубки. / А вот дорогу к дому / забыл – ну хоть убей» (4, 87). В этом мире пребывающая в мире ином мать – только очерченная обстоятельствами жизни пустота. Знание об ином мире приводит в отчаяние, потому что оно высвечивает пустотность этого мира: «Незримый муравейник пробивая, / Тоскуя по утраченной земле, / Иллюзию земного пребыванья / Мы создали на вечном корабле. // <…>. // Но ни один не пожелал признаться / В том, что за плёнкой опытной мечты / Зияет леденящее пространство, / Бессмысленная бездна пустоты…» (4, 88). В отчаянии Кузнецов доходит до предела: в себе и в окружающих он видит испещрённую дырами вещь, внутри которой нет ничего, кроме пустоты. В этом смысловом ключе Кузнецов в 1966 – 1968 годах написал целую серию стихов: «Трамвай», «Звезда в горах», «Никто», «Грибы», «Снег», «Кольцо» и другие. Центральное место в ней занимает стихотворение «Отсутствие» (1967), в котором, по воспоминаниям поэта, был создан его «первый миф» (6, 78): «Этот чай догорит. / На заре ты уйдёшь потихоньку. / Станешь ждать, что приду, / Соловьём засвищу у ворот. / Позвонишь. / Стул в моём пиджаке / Подойдёт к телефону, / Скажет: – Вышел. Весь вышел. / Не знаю, когда и придёт» (4, 93). В этом контексте станет намного лучше понятен страшный упрёк сына в (близком к стихам этой серии по времени) стихотворении «Отцу» – станет видно, что это вопль страдающего сына, не понимающего, как ему жить в этом – взошедшем на пустоте – мире.
Как мы уже сказали, представление Кузнецова о вещах-символах выросло на почве отчуждения от сына погружённой в воспоминания о муже матери. Отход поэта от метафоры был вызван теми же причинами и был параллелен этой ситуации. Разлад с метафорой у Кузнецова произошёл тогда, когда мать отдалилась от сына и стала жить своими воспоминаниями. Поэт предъявляет претензии метафоре, ранее совершенно немыслимые, чтобы вернуться к былому согласию с ней; для параллельной биографической истории это значит, что связанные с недовольством метафорой художественные искания Кузнецова были вызваны стремление восстановить близость с матерью. Что Кузнецов хотел от метафоры? Метафорическая структура создаёт образ, отсылающий к реальности иного порядка; но этот образ чужд реальности этого мира и может быть действителен только в переносном значении – он висит в воздухе, как призрак. Об этом Кузнецов подробно писал в «Воззрении»: «<…>. Эх, если б серп месяца косил луговую траву, как обыкновенный крестьянский серп. Вот было бы чудо! Так я мечтал. Переносный смысл метафоры – это призрак. Я хотел оживить призрак!..» (6, 77). Параллель между недовольством метафорой и отчуждением матери показывает, что желание Кузнецова оживить метафору-призрак определялось намерением воссоздать для матери живой образ погибшего мужа, который избавил бы мать от не дававших ей жить в настоящем воспоминаний о прошлом. Вернув мать в настоящее, образ отца сделал бы мать и сына снова близкими. Эксперименты Кузнецова с метафорой, предпринятые им в 1960-х годах, не давали желаемого результата; поэт окончательно убедился, что метафоре не под силу быть «в одном прямом значении».
Впрочем, Кузнецов удостоверился в этом, проанализировав самый феномен метафоры. Важнейшей вехой на этом пути стала выполненная поэтом на 3-м курсе Литинститута курсовая работа (по «текущей советской литературе») «О внешнем реализме в поэзии Ярослава Смелякова» (1968). В.В. Огрызко утверждает, что в этой работе Кузнецов сполна рассчитался с романтикой «певцов революции», из которой произросли «многие его юношеские стихи» (7, 219): «Уже на третьем курсе он сильно разочаровался в стихах комсомольских романтиков 30 х годов…» (7, 220). Однако текст курсовой не даёт оснований для этого заключения: в нём рассматриваются исключительно теоретические вопросы. Центральный тезис Кузнецова: поэзия Я.В. Смелякова являет собой «внешний реализм». Стихотворные рассказы Я.В. Смелякова о своей и чужой жизни, хотя в них есть точность и достоверность, не являются поэзией в непосредственном смысле слова. Определяющее для «внешнего реализма» значение Кузнецов связывает со смеляковской метафорой, в частности – с её навязчивой зрительностью: «<…> поэт, описывая факт жизни, останавливает свой взгляд на внешних деталях. Область его внешнего, физического зрения становится областью его внутреннего зрения. Внутреннему миру просто не остаётся места. <…>. Работая над стихом, он вызывает из памяти конкретные зрительные образы, навеянные темой, и начинает их сцеплять по внешнему признаку. «Зрительность» его метафор и сравнений, сочетание контрастных понятий <…> говорит именно не об остроте, а о слабости зрения…» (6, 83). Согласно Кузнецову, метафора демонстрирует несостоятельность поэтических претензий Я.В. Смелякова: поэт, настаивая на прямом понимании переносного значения, превращает свои стихи в нелепые картины. По сути, метафора Я.В. Смелякова разоблачает самое себя: она желает быть жизнью, но даёт лишь её видимость, поскольку её переносное значение не может соответствовать действительности. Так, процитировав строфу из стихотворения Я.В. Смелякова «Русский язык» («Вы, прадеды наши, в неволе, / мукою запудривши лик, / на мельнице русской смололи / заезжий татарский язык»), Кузнецов заявил: «Вот как мстит поэту принцип «зрительности» и слабость зрения. Мельницу русского языка он понимает буквально, тут же и лица в муке. Предостерёг бы поэта поэтический вкус, да где его взять, если внутреннее зрение вытеснилось внешним» (6, 84).
Здесь возникает вопрос о точке зрения Кузнецова, с которой он критически оценивает смеляковские стихи: что придаёт поэзии соответствие действительности? Кузнецов подробно разбирает стихотворение «Иван Калита», показывая, что создаваемый Я.В. Смеляковым образ поэта, возрождающего русский язык, не отвечает действительности именно потому, что задаётся метафорически. Претензия к Я.В. Смелякову останется совершенно непонятной, если мы не примем во внимание невысказанную Кузнецовым вслух мысль о своеобразном тождестве поэзии и действительности, которое сообщает стихам, если использовать понятия кузнецовской курсовой, внутренний реализм. Я.В. Смеляков создаёт образ своего «собирающего язык» поэта, последовательно разрабатывая череду метафор: прозванный Калитой московский князь Иван Данилович, нищий на паперти, некий (советский) банкир. Почему смеляковская метафорическая работа признаётся Кузнецовым неудовлетворительной? По замыслу Я.В. Смелякова, образ его поэта изображает процесс возрождения русского языка, некогда полнокровного и могучего, а ныне – как бы захудалого; в нём, этом образе, настоящее связывается с прошлым; в результате смеляковский образ поэта наделяется значением бесконечного времени, в котором преодолевается смерть и утверждается бессмертная жизнь. Это бесконечное время Я.В. Смеляков передаёт, надевая на своего поэта многочисленные исторические маски, которые должны вызывать в читателе ощущение различных эпох. Я.В. Смеляков, вероятно, считал созданный в стихотворении метафорический ряд большой удачей. В самом деле: он делает стихи динамичными, создаёт своеобразный сюжетный эффект и пластическую выразительность (зримость). Между тем для Кузнецова достоинства смеляковской метафорики – поверхностные. Созданный в «Иване Калите» образ поэта не имеет целостности, которая способна убедительно передать бесконечность времени, он призрачен: «<…> разбирайтесь сами, читатель, где тут банкир с паперти, где тут Иван Калита в банке. И сколько звону: паперть, «копить наследство», запасы, мошна, кладовая, банки! Казалось бы, такие эпитеты, как «сутулый, бритолицый», намекают о цепком поэтическом взгляде, казалось бы, сравнение с Калитой говорит о смелости воображения, но все вместе эти краски не создают ничего органичного, ничего цельного, а только бесформенное сооружение, сделанное по принципу «тяп-ляп»» (6, 85). Может сложиться впечатление, что это как раз Кузнецов воспринимает метафору буквально, а не Я.В. Смеляков. Но это ошибка. Передавая связь настоящего и прошлого в образе поэта метафорически, Я.В. Смеляков не замечает самого существа этой связи: её подменяет культурно-историческая тематизация. В результате стихи передают действительность, – а это, напомним, связь настоящего и прошлого, – поверхностно, причём эта внешняя поверхность целиком колоризируется метафорой, и метафорическое (переносное) значение, действительно, становится буквальным.
Попытаемся реконструировать теоретическую позицию, с которой Кузнецов критикует смеляковскую метафору. Как можно понять Кузнецова, действительность – связь настоящего и прошлого – должна быть дана в стихах приёмом, который включал бы в себя настоящее и прошлое одновременно, но тематически был бы вненаходим как для настоящего, так и для прошлого. Этот приём в некоторой мере схож с метафорой, однако он «не читаем» в свойственных метафоре понятиях прямого и переносного значения. Этот приём даёт образ неисторизируемый, показывающий настоящее в том же виде, что и прошлое, – образ, который изображает «всегда», а не некую встречу «сейчас» и «тогда». В этом случае образ предстаёт в стихах целостным – «в одном прямом значении».
Нетрудно догадаться, что Кузнецов критикует смеляковскую метафору с позиции символа. Может быть, уже тогда, в 1968 году, поэт знал, что его художественные поиски обращены к символу. Однако умение мыслить символами пришло к нему постепенно. Целью Кузнецова был образ «в одном прямом значении», включавший и в то же самое время снимавший прямое и переносное значения метафоры. Если ориентироваться на есенинский опыт построения символа, на который Кузнецов ссылается в «Воззрении» (6, 77 – 78), механизм создания целостного образа являл собой своего рода алгоритм работы с метафорой. Разбирая стихи С.А. Есенина о ветре-схимнике, который осторожным шагом идёт по дороге и «целует на рябиновом кусту / Язвы красные незримому Христу», Кузнецов пишет: «Пространство в две тысячи лет сквозит за есенинским кустом. Сам Христос незрим, но видны Его красные язвы (рябиновые гроздья). И всё это чудо произошло благодаря эпитету «незримый». При любом другом эпитете Христос так бы и остался метафорой, к тому же вычурной…» (6, 78). Как видим, алгоритм работы с метафорой состоит из двух этапов. Сначала создаётся метафора как таковая. Это – сращивающая части образа «мёртвая вода». Имеется в виду, что в метафоре происходит перенос смысла одной вещи на другую, как бы соединяющий вещи друг с другом. Затем наступает очередь «живой воды», она воскрешает к жизни «собранный» метафорой из частей образ. В приведённом Кузнецовым есенинском примере это введение в метафору особого эпитета; но, строго говоря, это чисто технологический момент. Суть трансформации метафоры заключается в том, что её прямое и переносное значения соотносятся друг с другом как бытие и инобытие, в следствие чего их «прямота» и «переносность», смыкаясь и единясь в образе, образуют его обширный смысловой объём (многозначность).
Работу этого алгоритма можно проследить в стихотворении Кузнецова «Бумажный змей», в котором, как нам известно, был создан первый его символ (хотя символы «случайно» возникали у поэта и раньше). Этот символ – вынесенный в заглавие стихотворения бумажный змей; или, конкретнее, держащая змея в руке суровая нить. В его основе лежит метафора как таковая; собственно говоря, если не приглядываться, кузнецовский символ можно принять за метафору. Так, суровая нить образно выражает связь между настоящим (детством) и будущим (молодостью) лирического субъекта поэта. Бумажный змей представляет настоящее в прямом значении, будущее – в переносном. Стихи (письма в детство) только подобны нанизываемым на нить и посылаемым ввысь, как письма, обрывкам газет: «И я оставляю четыре стены, / Бегу под ударами сердца. / Летят и летят вдоль по жизни стихи, / Как письма в далёкое детство. // Куда он взлетает, мой мир молодой, / Обычному глазу не видно. / Вот только сильнее мне режет ладонь / Суровая длинная нитка» (4, 77). Между тем в этих стихах присутствует малозаметный – но решительный! – сдвиг, одновременно объединяющий и снимающий прямое и переносное значения метафоры. Оба значения истаивают в едином образе: воздушный змей – образ в равной мере и настоящего-детства, и будущего-молодости. То есть метафора у Кузнецова деисторизируется: представленное в ней время разом подвижно (в этом смысловом регистре поэт даёт настоящее и будущее) и недвижно (так как в темпоральном континууме стихотворения образ остаётся неизменен). Вследствие деисторизации в метафоре стирается разграничение прямого и переносного значений, и она превращается в символ, в котором темпоральная проблематика уступает место проблематике пространственной. Настоящее-детство и будущее-молодость одновременны, потому что они существуют не во времени, а в пространстве – как бытие и инобытие.
Согласно Кузнецову, в символе воскресает то, что в пределах действительности разложено на части и мертво. Очевидно, что путь Кузнецова к символу параллелен известной по его стихам истории отношений с отцом: оказавшиеся бесплодными попытки ранней поэзии оживить метафору-призрак находились в прямом соотнесении со стремлением поэта обрести живой образ отца. Отец был нужен сыну, чтобы вернуть к жизни мать, которая, живя воспоминаниями о погибшем муже, погрузилась в прошлое. Ещё раз обратимся к истории царя Эдипа – к рассказывающему о человеческой судьбе мифу, а не разработанному З. Фрейдом психосексуальному комплексу. По видимости, Кузнецов, подобно Эдипу, пытался уйти от своей судьбы. В девять лет он начал писать стихи, в семнадцать – не видел ничего, кроме метафор; совершенно естественно, что после школы увлечённый поэзией юноша поступил на историко-филологический факультет. Однако учеба в Краснодарском Педагогическом институте им. 15-летия ВЛКСМ продлилась недолго. Через год, не закончив первого курса, Кузнецов бросает институт и уходит в армию. Этот странный поступок, которому поэт придавал судьбоносное значение, хотя никогда не разъяснял, в чём оно заключалось, страшно напугал его мать, на что, кажется, он и рассчитывал. По его словам, он «сам рвался в армию» (8, 50). В армии поэт «мало писал и как бы отупел» (77), хотя вряд ли мог ожидать чего-то другого. Спрашивается: почему грезящий стихами юноша предпочёл институту армейскую службу, бывшую вообще-то ему не по характеру?
Косвенно на этот вопрос отвечает одно из армейских стихотворений (1963 год) Кузнецова: «Вернусь на родину – суровый… / Вот дом, где мать сидит и ждёт. / И бережёт мои обновы / Три длинных года напролёт. // Она от радости заплачет, / Как много раз в солдатском сне. / И в нафталин мундир запрячет. / «И то добро!» – промолвит мне. // Я вспомню пыль под сапогами, / Походных труб огонь и медь. / И стисну голову руками / И долго буду так сидеть» (4, 16). Стихотворение это имеет специфическую субъектность: она как бы полая, и заполняет её другой голос из другого времени. Ещё не завершивший службу сын мечтает о том, как придёт домой к матери, и именно с точки зрения матери он своё будущее возвращение и изображает. Возникшую в армии «суровость» лирического субъекта, его позу, указывающую на раздумия о годах армейских тягот, и прочее – всё это могла увидеть только мать. Ожидаемая сыном встреча может произойти лишь так, как она представляется его матери, и не иначе. Но откуда было известно, как мать встретит сына из армии? Он хорошо знал о её приготовлениях к возвращению мужа с войны – вот откуда! Кузнецов именно для того и ушёл в армию, чтобы вывести мать из воспоминаний о прошлом в реальность настоящего. Он надеялся, что проведённые в ожидании армейские годы заставят мать увидеть погибшего мужа в сыне, и стихотворение «Вернусь на родину – суровый…», показывавшее его возвращение из армии, изображало в сыне отца. О том, что Кузнецов ушёл в армию, движимый желанием воскресить отца, превратившись в него, свидетельствует сделанное им в одной из записей о том времени признание: «Я хотел отца. Мне нужен был он. <…>. Мне надо было ещё многое обдумать, ещё многое мне было не ясно. Ясно было одно: отец стоит со мной рядом, и он мне поможет во всём разобраться» (8, 51).
Этого, однако, не произошло. Судьба настаивала на своём. Кузнецов, вероятно, жил в страшном напряжении, страдая от того, что был бессилен вернуть мать в настоящее. Об этом можно судить по стихотворению «Мать, глядящая в одну точку» (1972), противоречиво сочетающему сострадание матери и раздражение от её упорного стояния в прошлом, стихотворению, написанному в предчувствии катастрофы, гибельной и для матери, и для сына: «В упор только раз и взглянула / На этой проклятой войне. / – Жена комиссара? – и дуло / Её пригвоздило к стене. // В одну только точку глядела. / Давно этот ужас исчез. / И память давно побледнела, / И черные списки эсэс. // Но видеть и слышать не хочет, / Пустыми глазами глядит – / Война перед нею стоит / В невидимо сжавшейся точке, / И взрыв эта точка сулит» (4, 143).
В мире Кузнецова была дыра в иную реальность, из неё вырывалась страшная тяга, всасывавшая его мать. В иной реальности жило своей жизнью всё то, чего не существовало, отжившее, погибшее, прошлое. И будущее, ведь его тоже не существовало. Знание об этом, как зеркало, направленное в бездну, отражала его мать. Кузнецов ощущал пустоту в самом себе: он жил в инобытии – одновременно и в прошлом, и в будущем. Откровение о мировой дыре предстало Кузнецову в образе дома с дырой. Он понимал, что невозможно найти счастье в прошитом фугасом сверху донизу в доме; впрочем, образ дома появился у него до одноименной военной поэмы – в совершенно неожиданном, как может показаться, контексте. В контексте ожиданий будущего. В 1969 году Кузнецов создаёт стихотворение «Муравей»: «Я не знаю ни бога, ни счастья, / Только бревна таскаю, прости. / На земле муравей повстречался / И бревно мне помог донести. // Я дышал в муравьиное темя. / Он по краю стакана ходил, / Из которого в доброе время / Не одну только воду я пил. // Показалось: частицею малой / Сам я вспыхнул на чьем-то краю. / Разве глупая тварь понимала / Одинокую душу мою? // Но края тёмной бездны невольно / Преломились в едином луче. / Мы таскали тяжелые брёвна / То на том, то на этом плече. // Где он? Дом я достроил до крыши, / Вместо пола и стен – решето… / Были встречи короче и ближе, / Но предела не ведал никто» (4, 121).
Многозначность символа создаёт трудности для его прочтения, но она же и одаряет смыслами, если эти трудности преодолеть. В стихотворении идёт речь о строительстве дома. Лирический субъект Кузнецова не знает «ни Бога, ни счастья». В стихотворении того же 1969 года «Отцу» Кузнецов связал отсутствие счастья с отчуждением живущей воспоминаниями матери. Следовательно, фигура строителя дома отсылает к истории отношений Кузнецова с матерью, они и предстают в образе-символе дома. Строить дом лирическому субъекту берётся помогать «муравей»; дом – семья, значит, «муравей» – женщина, невеста строителя. Дом возведён до крыши, но в этот момент помощник-«муравей» оставляет своего товарища. Видимо, виноват в этом сам строитель: помощник-«муравей» ходил с бревном «по краю» его стакана, балансируя над бездной. Оглядывая свой дом с недостроенной крышей, одинокий строитель видит, что он точно такой же муравей с бревном на ободке стакана, с всё той же бездной под ногами. Но разворачивающаяся под ним бездна открывает свой ужас в том, что строившийся им дом с самого начала был весь в дырах – «вместо пола и стен – решето…». Если крыша дома-семьи – жена, то пол и стены – отец и мать. Женщина давала строителю иллюзию возможности дома-семьи; когда же она ушла, стало ясно, что дома не будет до тех пор, пока он не обретёт отца и мать.
В стихотворении «Муравей» находят выражения переживания Кузнецова об отношениях с женщиной, которую он считал, вероятно, своей невестой, в то же время эти нескладывающиеся между ними отношения ретроспективно высвечивают катастрофический разлад поэта и его матери. Очевидно, что характерный для поэзии Кузнецова драматизм любви мужчины и женщины, требующий от них почти невозможного двойного зрения, связан с представлением о дыре в иную реальность. В ранних стихах конца 1960-х годов поэт писал о том, что человек не способен в любви сохранить себя. В стихотворении «Никто» накала любовных отношений не выдерживает мужчина: словно просеянный через некое решето, он исчезает, оставляя после себя зонт и калоши (4, 98). В стихотворении «Мужчина и женщина» эта участь постигает женщину: стирая слёзы с её лица, мужчина обнаруживает, что она стёрлась, остались «только платья» (4, 123).
Оттуда, из мировой дыры, сквозит, дует, веет, шумит, налетает ветер, доносится свист. То, что приходит оттуда, пугает даже смельчака. Об этом-то Кузнецов и писал в стихотворении «Возвращение» (1972): смешанные в памяти матери о муже боль и радость делают лишь рельефнее ужас сына, видящего отца в идущем оттуда клубящемся столбе дыма: «Мама, мама, война не вернёт… / Не гляди на дорогу. / Столб крутящейся пыли идёт / Через поле к порогу. // Словно машет из пыли рука, / Светят очи живые. / Шевелятся открытки на дне сундука – / Фронтовые. // Всякий раз, когда мать его ждёт, – / Через поле и пашню / Столб клубящейся пыли бредёт, / Одинокий и страшный» (4, 146). Решающее значение в преодолении вызывавшей в Кузнецове оторопь мировой дыры имело выработанное им мышление символами. Важное свидетельство об этом содержится в стихотворении «Поэт» (1969): «Спор держу ли в родимом краю, / С верной женщиной жизнь вспоминаю / Или думаю думу свою – / Слышу свист, а откуда – не знаю. // Соловей ли разбойник свистит, / Щель меж звёзд иль продрогший бродяга? / На столе у меня шелестит, / Поднимается дыбом бумага. // Одинокий в столетье родном, / Я зову в собеседники время. / Свист свистит всё сильней за окном – / Вот уж буря ломает деревья. // И с тех пор я не помню себя: / Это он, это дух с небосклона! / Ночью вытащил я изо лба / Золотую стрелу Аполлона» (4, 21).
Идущий неизвестно откуда свист поэт слышит всякий раз, когда оказывается в ситуации жизненного вызова: сопернику в споре, прошлому (воспоминание), будущему (дума), тому, что не желает его стихов (и заставляет вставать на дыбы, как непокорного коня, бумагу). Это вызов неостановимого потока времён, и Кузнецов его принимает. Всё, что идёт на него из мировой дыры, свистя, как пуля или выпущенная из лука стрела, он заключает в символе. Этот символ – время. Как и другие кузнецовские символы, время не есть предмет – оно выражение завязанных в тугой узел отношений с близкими и далёкими и самим собой. Родное столетие, но он одинок, как человек, утративший родных – отца, мать. Он живёт с этой утратой как с не зарастающей раной. В ней пропадает всё, что является ему родным. Утраченное не перестало существовать, оно существует в ином мире. Инобытие утраченного даёт знать о себе, отзываясь то тоской, то томлением и страхом. Произошедшее с тобой возвращается к тебе, и нужно иметь мужество, чтобы выдержать его. Таково в целом содержание представляющего в стихотворении «Поэт» время символа. Но окончательно раскрывается этот символ во встрече – собеседовании – со временем.
В этом контексте «Поэт» – спор-диалог с Ф.И. Тютчевым, писавшим в стихотворении «Цицерон»: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир. / Он их высоких зрелищ зритель, / Он в их совет допущен был – / И заживо, как небожитель, / Из чаши их бессмертье пил!» (11, 23). Время делает роковыми все без исключения минуты, и все они несут смерть, а не бессмертие. Лишь мужество собеседования со временем уравнивает смертного с бессмертными. Это собеседование – поэзия, творение стихов, стихотворение. В «Поэте» бросаются в глаза отсылки к античной культуре. Более или менее очевидная отсылка ведёт к мифу об Аполлоне, жестоко расправившемся с бросившим ему вызов и победившем в состязании в игре на флейте пастухом Марсием. Менее очевидная – к Платону и – далее – древним рапсодам, с именами которых греки связывали представление о поэзии как о священном неистовстве (безумии). Кузнецов следует – самым непосредственным и в то же время неожиданным образом – античной традиции, подтверждая идею о том, что поэзия – божественный язык, приходящий к поэту из реальности иного мира.
Но стрела Аполлона появилась в стихотворении не случайно. Восходящая к мифической древности идея о божественном языке поэзии представлена у Кузнецова в форме его собственного опыта. То, что приходит из иной реальности, – сила страшная, губительная. Стрела Аполлона – это инобытие того осколка, которым был смертельно ранен отец Кузнецова. Поэт отнюдь не кокетничал, говоря об колоссальном риске этого поединка: «<…> сам того не осознавая, послал вызов богу искусств Аполлону: написал стихотворение «Поэт». Аполлон не стал сдирать заживо с меня кожу, как с Марсия, но удостоил меня ответом: послал смертоносную стрелу. От одного свиста его стрелы поднималась буря и ломала деревья. Удар был сокрушительным, но я устоял. / <…>. / Очень важно, что я устоял. Человек с обыденным сознанием усмехнётся и скажет: «Какая чепуха! Это всё произошло на бумаге». Не на бумаге, а внутри поэта. И выразилось в слове. Нельзя же читать стихи, как газету» (6, 79). По Кузнецову, поэзия является орудием, дающим человеку способность противостоять потоку времён. Из иного мира идёт не вдохновение, но непомерные, а поэтому – гибельные, силы, и стихи возникают для того, чтобы человек мог сдержать их напор. Поэт считал, что исключительную крепость стихам придаёт символ. Символ, словно поставленный на пути взгляда горгоны Медусы щит Персея, отражает идущие из иного мира силы, превращая их в живой поэтический образ. Он – зеркало, с помощью которого поэт, направляя его в мировую дыру, заглядывает в инобытие, странствует взглядом в мире теней. В символе поэзия связывает и роднит этот мир с иным, разрешая конфликт настоящего с несуществующими (больше или пока) временами, конфликт, которому судьба обрекает человека.
Научившись обращаться с символами, Кузнецов через мировую дыру направил свой взор в инобытие и, подобно Одиссею, спустившемуся Аид, в царство мёртвых, встретился с пугавшим его прошлым – жившим в воспоминаниях матери отцом. Речь идёт о поэме «Дом», она далась поэту не с первого раза: только во 2-й редакции (1976 год) он смог покорить жившие в материнской памяти стихии, к которым были обращены его символы. В поэме «Дом» много примечательного; но наиболее интересной представляется та авторская перспектива, в рамках которой Кузнецов изображает войну. Рассказ поэта – отнюдь не свидетельство о войне: в нём нет ни документальной основы, ни художественном обобщения. Он – своего рода видение о семье (доме), идущее на поэта откуда-то со стороны, потому-то каждая последующая картина его поэмы непредсказуема. Упомянем самые заметные сюжетные зигзаги «Дома». Только что начатая драматическая история Фили неожиданно и как бы банально обрывается, не предоставляя автору возможности воспользоваться его сулящей успех «находкой» (4, 324). В начале 1-й главы поэмы Кузнецов сообщает, что сыновей старика-отца, Ивана и Луки, не стало, один сгинул в борьбе за «свободу дальних стран», а другой – в разгуле московской жизни (4, 325); между тем они вдруг оказываются живы. Во 2-й главе Мария, жена Ивана, получает похоронку на мужа (4, 340), однако и на этот раз Иван остаётся жив: в 3-й главе он бежит из плена и возвращается домой (4, 341).
Изображаемые в поэме «Дом» события происходят как бы в тот же самый момент, когда возникают стихи. Старик-отец изображается так, как он предстаёт взгляду поэта: «Троился сумрачный старик – / Спиной к моей поэме…» (4, 326); «Мне снились юность и слова… / Но старику не спится…» (4, 331). О создании поэтического изображения в момент заглядывания в иное Кузнецов пишет, не таясь: «Пространство эпоса лежит / В разорванном тумане…» (4, 328). Визионерский характер поэмы и объясняет нескоординированность мысли и души автора: «мысль спешит <…> сказать заранее» о Владимире, сыне Ивана, но душа «полна / Трагической дремоты» (4, 328), и стихи о мальчике появляются, когда к поэту приходит видение о нём.
Мотив заглядывания в дыру, через которую из иного мира сквозит неведомое поэту прошлое, ярко представлен в поэме «Дом» образом-символом зеркала. Герои поэмы, старик-отец, Иван и Лука, напротив, в слепящем глаза отблеске семейного зеркала видят свою участь – будущее, которое их ожидает. Иван говорит жене о некоем находящемся под зеркалом тайнике; Лука по своей глупости считает, что это обладающая смертоносной мощью неразорвавшаяся бомба; поэтому-то он и просит её у эсэсовцев в награду за донос на брата (4, 342 – 343). Однако тесно связанный с семейным зеркалом тайник можно понять лишь в контексте тайны автора, которая бережёт мир от стирания словом «ничего»: «Что в этом слове «ничего» – / Загадка или притча? / Сквозит Вселенной из него, / Но Русь к нему привычна. / Неуловимое всегда, / Наношенное в дом, / Как тень ногами, как вода / Дырявым решетом. / Оно незримо мир сечёт, / Сон разума тревожит. / В тени от облака живёт / И со вдовой на ложе. / Преломлены через него / Видения пустыни, / И дно стакана моего, / И отблеск на вершине, / В науке след его ищи / И на воде бегущей, / В венчальном призраке свечи / И на кофейной гуще. / Оно бы стёрло свет и тьму, / Но… тайна есть во мне. / И с этим словом ко всему / Готовы на земле» (4, 327 – 328).
«Ничего» – символ властвующего в этом мире времени. Одно из важнейших образных определений «ничего» в поэзии Кузнецова – тень. Тень неотделима от человека, но никогда с ним не слита: она – позади, как прошедшее, или впереди – как будущее. Тень – несуществующая жизнь (ничто, пустота, ноль), но вполне реальная: это инобытие настоящего. Зная об этом, Мария прощается с Иваном, уверенная, что даже смерть не разлучит их: «Придёт из вечной пустоты / Огромное молчанье, / И я пойму, что это ты…» (4, 333). Инобытие есть существование человека до рождения и после смерти. Он приходит в жизнь из пустоты и уходит в пустоту: «Напрасны жалобы твои, пришедший ниоткуда…» (4, 344 – 345). В системе причинно-следственных отношений окружённая пустотой жизнь бессмысленна… Была бы бессмысленна, если бы человек был замкнут действительностью этого мира и не ведал о знаках, которые ему подаёт инобытие. В этих знаках человек получает возможность осмыслить то, что с ним было или будет. Об этом писал Е.А. Баратынский в стихотворении «Приметы» (1840): «Пока человек естества не пытал / Горнилом, весами и мерой, / Но детски вещаньям природы внимал, / Ловил её знаменья с верой; // Покуда природу любил он, она / Любовью ему отвечала, / О нём дружелюбной заботы полна, / Язык для него обретала. // Почуя беду над его головой, / Вран каркал ему в опасенье, / И замысла, в пору смирясь пред судьбой, / Воздерживал он дерзновенье. // На путь ему, выбежав из лесу, волк, / Крутясь и подъемля щетину, / Победу пророчил, и смело свой полк / Бросал он на вражью дружину. // Чета голубиная, вея над ним, / Блаженство любви прорицала. / В пустыне безлюдной он не был одним, / Нечуждая жизнь в ней дышала…» (1, 253). Реальность иного мира доступна в форме её отражения, в которой бесконечность времён становится посильной человеку. Но видеть инобытие способны лишь те, кто владеет зеркалом времён. Эти люди спасают мир от стирания, которым грозит слово «ничего». Такое зеркало и имеет в виду автор поэмы «Дом», когда говорит о хранящейся в нём тайне. Эта тайна – символ.
Эпос – форма художественного сознания, в которой индивидуальное раскрывается в родовом; поэтому он обращён ко всем и каждому. Однако у поэмы «Дом» был конкретный адресат: вынесенное Кузнецовым из иного мира на зеркальной поверхности поэмы отражение инобытия предназначалось матери поэта. Напомним, «Дому», 1-я редакция которого создавалась в 1972 – 1973 годах, предшествовали такие взвинчено-тревожные стихи, как «Мать, глядящая в одну точку» и «Возвращение». Подтверждением нашей мысли об адресате «Дома» выступает баллада «Четыреста», написанная в 1974 году – по окончании работы над поэмой. Это произведение можно рассматривать как поясняющий замысел «Дома» комментарий.
Баллада «Четыреста» начинается с реминисценции, отсылающей к центральному эпизоду «Битвы спящих» – 2-й главы «Дома». Четыре дня подряд, и ночью, и днём, защищавшие рубеж русские войны «заснули на ходу / С открытыми глазами»: «тело зачерпнуло сон, как воду решето» (4, 337). И в этом сражении-сне (восходящем скорее к бою толстовского капитана Тушина, чем к лирическому субъекту поэтического цикла А.А. Блока «На поле Куликовом», как считается) к Ивану приходит видение жены и сына: «Блеснул Ивану тёмный дом, / Мария на пороге. / У края платья сын мигал, / Как отблеском свеча, / И мать из мрака высекал, / «Ты где? » – отцу крича…» (4, 338). С этого вопроса, заданного сыном матери, и начинается баллада Кузнецова.
Центральная идея баллады «Четыреста» – взыскание погибших на войне отцов. Кузнецов ведёт речь не об официальном почитании героев Великой отечественной войны или вообще о памяти о них. Взыскание погибших необходимо для восстановления естественного состояния мира, отвечающего кругу (циклу) жизненных явлений. Одно из важнейших из них – мужание сыновей, обретение себя в мужах, подобных погибшим отцам. Близким к этому положению контекстом можно считать стихотворение «Отцу». Живущий в воспоминаниях матери отец наполняет жизнь сына «летучими призраками» – «рождёнными в мозгу» братьями и сёстрами. И в этой ситуации у сына нету шансов повзрослеть: всякий раз, когда отец «возвращается», сын оказывается в сообществе фантомных детей и, как и они, оказывается фантомом (пустотой). Причины этого положения Кузнецов связывал с принесённым войной нарушением вековечного хода мирового колеса: «Через военное кольцо / Повозка слёз прошла, / Но потеряла колесо / У крымского села. // Во мгле четыреста солдат / Лежат – лицо в лицо. / И где-то тридцать лет подряд / Блуждает колесо. // В одной зажатые горсти / Лежат – ничто и всё. / Объяла вечность их пути, / Как спицы колесо…» (4, 154). Погибшие на Сапун-горе горе отцы как бы запечатаны в вечности – обрезаны от мира сынов (настоящего), и мир сынов остановился, замер, обездвижел.
Вероятно, Кузнецов развивает в балладе представленную в романе-эпопее «Война и мир» интуицию Л.Н. Толстова, что война – это «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (10, 7). Толстовская интуиция соединяет мифический и христианский планы «Четыреста» в единое целое. Обратим внимание на христианский план баллады: он менее заметен, но не менее важен. В центре его – представление о Великой отечественной войне как о противостоянии не знавших истинной веры отцов дьявольскому злу. Оно возникает уже в поэме «Дом»: «У битвы не было небес, / Земля крушила землю. / Шёл бой в земле – его конец / Терялся во Вселенной» (4, 337). В «Четыреста» это представление выражено развёрнуто и отчётливо. Когда сын, герой баллады, обращается к Сапун-горе, говоря, что желает видеть отца, гора отвечает: «– За полчаса и тридцать лет / Ты был не здесь, дитя» (4, 154). Эта формула создана на основе вызывавших у Кузнецова восхищение стихов «Божественной комедии» (6, 82); в них один из демонов рассказывает Данте и Вергилию о сошествии Иисуса Христа в ад и произведённом этим событием землетрясении, обрушившим мост через пропасть: «Двенадцать сот и шестьдесят шесть лет / Вчера, на пять часов поздней, успело / Протечь с тех пор, как здесь дороги нет…» (2, 129). Речь идёт о страстях Христовых, в частности – о событиях, которые произошли на второй день пребывания Христа во гробе. Согласно догмату, восходящему к апостолу Петру, после распятия Христос спустился в ад и, сокрушив его ворота, вывел из ада Адама и Еву и ветхозаветных праведников (1Пет. 3:18 – 19; 4:6). Видение произошедшего на Сапун-горе в 1944 году сражения, в котором пал отец героя баллады, придаёт войне также и апокалиптические черты. На Сапун-горе появляются опоясывающие её семь цепей (колец), усеянные устрашающими ногтями (когтями). Этот образ – контаминация дантовских кругов ада и описанного в «Откровении Иоанна Богослова» выходящего из моря семиголового Зверя (Откр. 13:1 – 2), которого обычно отождествляют с Антихристом, сыном погибели (дьявола).
Тень сына проникает в потусторонний мир и вызволяет из плена вечности отца и его товарищей. Сын приводит держащегося за его тень отца домой – к ожидающей возвращения мужа матери. Тень – инобытийный двойник героя баллады, в её образе Кузнецов варьирует зеркальный щит автора поэмы «Дом». Совершенно очевидно, что образ сына содержит коннотации, отсылающие к подвигу Иисуса Христа, совершённому во имя Отца, подвигу, в котором непосредственно утверждается единство Сына и Отца. Так, герой идёт через свою тень по водам Керченского пролива как посуху. Обратный его путь далёк и мучителен, подобно крестному пути Иисуса: «Шатало сына взад-вперёд, / Он тень свою волок. / – Далёк ли путь? – пытал народ. / Он отвечал: – Далёк. // Он вёл четыреста солдат / До милого крыльца. / Он вёл четыреста солдат / И среди них отца» (4, 154). Отец возвращается домой – к жене – в тени своего сына. Отец жив той жизнью, которой его наделяет тень сына. Тень соединяет сына и отца в единстве бытия и инобытия: сын – это бытие погибшего отца, отменяющее его смерть; отец – открывающее сыну его судьбу небытие: тот смысл, который оправдывает жизнь перед лицом будущей смерти и делает смерть недействительной. Образ-символ тени героя баллады «Четыреста» содержит ту логику, которая связывает у Кузнецова его поэтическое становление и гибель отца. Сын и его тень – единый для отца и сына образ – есть тот хозяин (муж), выйти встречать которого герой призывает мать: «– Ты с чем пришёл? – спросила мать. / А он ей говорит: / – Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит. // И встала верная жена / У тени на краю. / – Кто там? – промолвила она. – / Темно. Не узнаю… // – Кто там? – твердит доныне мать, / А сын ей говорит: / – Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит…» (4, 154). Неотчётливость образа того, кто вернулся домой, означает, что в сыне и его тени мать видит одновременно сына и мужа. Возвращение матери погибшего мужа и мужание сына освобождают их, мать и сына, из плена замершей фантомной жизни, о котором Кузнецов писал в стихотворении «Отцу», и одновременно восстанавливают естественное состояние мира: «– Россия-мать, Россия-мать, – / Доныне сын твердит, – / Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит» (4, 154).
Баллада «Четыреста» завершает возведение метафизического здания дома-поэзии Кузнецова. Выход в пространство поэтических символов, в котором поэт открыл миф, привёл к трансформации темы погибшего отца: эта личная тема превращается в национальную, эпическую не только по форме, но и по сути, тему народной трагедии – предназначенных судьбой страданий. Проследить эту трансформацию можно по стихотворению «Сапоги» (1984). В нём совершенно по-новому осмысляется мотивика ставших визитной карточкой поэта стихотворений «Возвращение» и «Отцу». Образ павшего на войне мужа дан в символе сапоги. Этот символ содержит коннотации образа, изображавшего у Кузнецова призрак погибшего отца: столба крутящейся пыли. Точнее было бы сказать, что метонимически связанные сапоги и пыль образуют смысловой круг этого символа. В сапогах-пыли образно сдваиваются мотивы страха и фантомного супружеского эроса (повторяя названные выше стихи Кузнецова не только тематически, но и точкой зрения): «Через поля шаги, шаги, / Несётся пыль до неба. / Не бейте землю, сапоги, / Она не даст нам хлеба… // Открыли дверь, и от луны / Мороз пошёл по коже, / Когда седая пыль войны / Легла на вдовье ложе. // Они стояли, как судьба. / Она во тьме стонала. / Наутро смыла пыль с себя, / И пыль землёю стала» (4, 252). Однако эпический подход Кузнецова к символу вносит равновесие в отношение индивидуального и народного начал. Сапоги вернулись домой, прежде побывав в поверженном Берлине: «На третий день войны бойца / Контуженного взяли. / «Ты поведёшь нас до конца!» / – Враги ему сказали. // «– Конец в Берлине!» И враги / Повесили солдата. / Но соскользнули сапоги / На долгий путь возврата. // Шаги, что годы, широки / И раздаются гулко. / По ним судили мужики: / «А ничего обувка!»» (4, 252). Сапоги-пыль – это сила, укреплявшая дух продолжавших сражаться товарищей солдата, и это единство мёртвых и живых стало залогом победы Советской армии. Победа, востребованная народом из глубин инобытия, воплощает судьбу России; но это и судьба вдовой солдатки, которой является в её памяти-сне пугающе-желанный призрак погибшего мужа. Одухотворяющее народ единство мёртвых и живых воцаряется между мужем и женой. Вдовья память освобождается от фантомов, ибо смерти нет: упокоенный в земле, погибший муж становится землёй, той землёй, на которой живёт его жена. Не менее показателен, однако, в «Сапогах» и уход Кузнецова от темы безотцовщины. Индивидуальное начало в стихотворении выражено, безусловно, точкой зрения как бы затаившегося в углу в испуге сына. Но оно растворяется в народном начале, олицетворяемом матерью, в котором мать и родина соединены в образе родной земли. Земля приняла отца, и он стал бессмертен, как принявшая его земля.
В конце 1970-х годов Кузнецов вырабатывает гибкую систему поэтических символов, являющую в себе духовное единство народа – мёртвых и живых, она во многом и определила последующий ход творческой работы поэта. Начатый вслепую, на свой страх и риск, художественный поиск привёл Кузнецова сначала к символу, а затем – мифу. Мифичность произведений поэта во многом была связана с фольклорной традицией, транслировавшей народные воззрения, но очень скоро её неотъемлемой частью становится христианское предание. Начиная с конца 1980-х годов христианское предание доминирует в мифе Кузнецова. Поздние поэмы Кузнецова – «Путь Христа», «Сошествие во ад» и (оставшийся недописанным) «Рай» – произведения поэта-визионера, в которых, подобно тому, как это произошло в «Комедии» Данте, христианская мистерия становится сокровенно-личным мифом. Эта особенность христианского мифа показывает действенную силу символа в позднем творчестве Кузнецова, претворяющего догматику учения о Христе в экзистенцию поэта.
Поэмы о Христе Кузнецова в определённом смысле были предсказаны его стихами. Обещание этих поэм можно увидеть в стихотворении поэта «Я пил из черепа отца…» (1977), в своё время вызвавшем в критике много шума и пересудов, но так и оставшемся непонятым. Разрешение в символе череп-чаша темы отца придаёт стихотворению удивительную эстетическую ёмкость, представленную клубком переплетённых смысловых линий. В зрелых стихах Кузнецова тема отца – это вопрошание о судьбе: о её предопределённости и смысле. Не является исключением и это стихотворение: «Я пил из черепа отца / За правду на земле, / За сказку русского лица / И верный путь во мгле. // Вставали солнце и луна / И чокались со мной. / И повторял я имена, / Забытые землёй» (4, 175).
Символ череп-чаша изображает историю противоречивых отношений поэта с отцом в её ходе – как путь, на который он вступил сыном, а завершил мужем. Это сын дерзко пил из черепа-чаши, а тот, кто отведал её, был живущий в согласии с миром – солнцем и луной – муж. На непочтительный по отношению к памяти отца поступок бросают отсвет устремления сына: не оправдывая сына, они объясняют его дерзость. Сын стремился «к правде на земле», хотел открыть «сказку русского лица» и отыскать «верный путь во мгле». Всё это ему должен был дать отец, но не дал. И вовсе не потому что погиб на фронте. Вспомним: если бы отец остался жив, Кузнецов стал бы ненужным поэтом. Это обстоятельство делает образ отца внутренне противоречивым. Это противоречие в свёрнутом виде присутствовало у Кузнецова в поэме «Дом» и балладе «Четыреста». Подтекст созданного в этих произведениях образа войны отсылает к преданию о сошествии Христа во ад – взысканию праведных отцов, не знавших истинной веры. Эта представление о павших на полях сражений отцах и определяет символ череп-чаша.
Лежащую на поверхности отсылку этого символа к легенде о гибели киевского князя Святослава Игоревича не так трудно было узнать, как объяснять. Как сообщается в летописи, Святослав был убит во время боя с печенегами, выследившими отряд князя. Печенежский хан Куря велел изготовить из черепа поверженного противника чашу, и пил из неё вместе с женой в знак великого уважения к воинской славе князя. Летописец связал гибель Святослава с отказом принять христианство. Христианство принял его сын, Владимир Святославович, его радением Русь стала христианской страной. Вероятно, крещение Руси было осмыслено Кузнецовым как предначертание судьбы, в котором сошлись истории павшего на поле боя отца-идолопоклонника и задумавшего спасение живших во тьме неведения предков сына. Эта мысль Кузнецова выступает основой символа черепа-чаши и, преломляясь в нём, просвечивает образно обозначенные в стихотворении отношения сына с отцом.
Отцы были праведны, но не знали веры; это показала война с фашизмом. Неспроста Кузнецов писал в поэме «Дом», передавая диалог старика-отца с воевавшим «за свободу дальних стран» Иваном: «– А ты свободу людям дал? / – Нет, но открыл им небо…» (4, 329). Отец был обречён возвращаться в воспалённых воспоминаниях матери домой – до тех пор, пока на земле не будет правды. Пока сын её не отыщет. Правду, во имя которой был распят Иисус Христос. Баллада «Четыреста» – и об этом тоже. «Сказка русского лица» как бы окликает неувиденный сыном взгляд отца, оставшийся «на почти не хрустящей фотокарточке старой» (4, 12), подсказывая единственно возможный способ видения. Этот способ – укоренённый в поэзии народа образ-символ. В открывающем взгляд отца символе сыну предназначено разрешить свои противоречия и в цельности своей личности познать родовое единство. Символ – тот чаемый сыном «верный путь во мгле», который он не смог бы найти, не испив «из черепа отца». Солнце и луна откликаются на слова-устремления сына: они знают, во имя чего он поднял череп-чашу. Сын, обретая согласие с миром, открывает одухотворяющего существование всякой живой твари Бога. Солнце и луна – это мировое колесо: день и ночь. Солнце и луна – это природа, олицетворяющая Творца мира. Во 2-й строфе стихотворения Кузнецов сжал в символе откровение, о котором поведал Иоанн Богослов: «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» (Откр. 1:10, 11). Природный мир был создан Господом Богом по Слову и из Слова, которым был Господь, и, значит, в его закономерностях являет себя реальности инобытия. Согласие солнца и луны даёт сыну право прикоснуться к сокровенному знанию. Забытые землёй (живущими) имена – отсылка к образу Адама-номотета, которому Господь доверил наречь в Райском саду «всякую живую душу» (Быт. 2:19). Библейский подтекст стихов Кузнецова свидетельствует, что обретённое сыном знания о забытых землёй именах – дар взыскания погибших, подобный тому, который Господь вручил Иоанну Богослову. Это – дар поэтического слова, слова-символа, ибо лишь в нём человек соприкасается с вечностью и тем единством, в котором неразрывны прошлое и настоящее, отец и сын, личность и народ.
Библиографический список
- Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. – СПб., 2000.
- Данте Алигьери. Божественная комедия. – СПб., 2006.
- Канавщиков А. Старик Державин их заметил. Родное – чужое – вселенское // Литературная газета. – 2013. – № 12. В сети Интернет: https://lgz.ru/article/12-6408-2013-03-20/starik-derzhavin-ikh-zametil/
- Кузнецов Ю.П. Избранное. Стихотворения. Поэмы. – М., 1990.
- Кузнецов Ю.П. «Надо мною дымится…» // Родная Кубань. – 2017. – Специальный выпуск.
- Кузнецов Ю.П. Тропы вечных тем: проза поэта. – М., 2015.
- Огрызко В.В. Непрощённая дерзость. От ниспровержения авторитетов к поощрению подражателей // Кузнецов Ю.П. Тропы вечных тем: проза поэта. – М., 2015.
- Огрызко В.В. Обречённость на одиночество. Судьба русского поэта Юрия Кузнецова. – М., 2017.
- Соколов В.Н. Избранное: Стихи. Поэмы. – М., 1989.
- Толстой Л.Н. Война и мир. Роман. В 2-тт. Т. 2. – СПб., 1993.
- Тютчев Ф.И. Русская звезда: Стихи, статьи, письма. – М.. 1993.
- Шайтанов И.О. Странный поэт. Юрий Кузнецов // Шайтанов И.О. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. – М., 2007.
- Шевченко О.В. Мифологический символ в лирике Юрия Кузнецова о Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2009. – № 1.
(https://rkuban.ru/archive/rubric/literaturovedenie-i-kritika/literaturovedenie-i-kritika_8707.html)
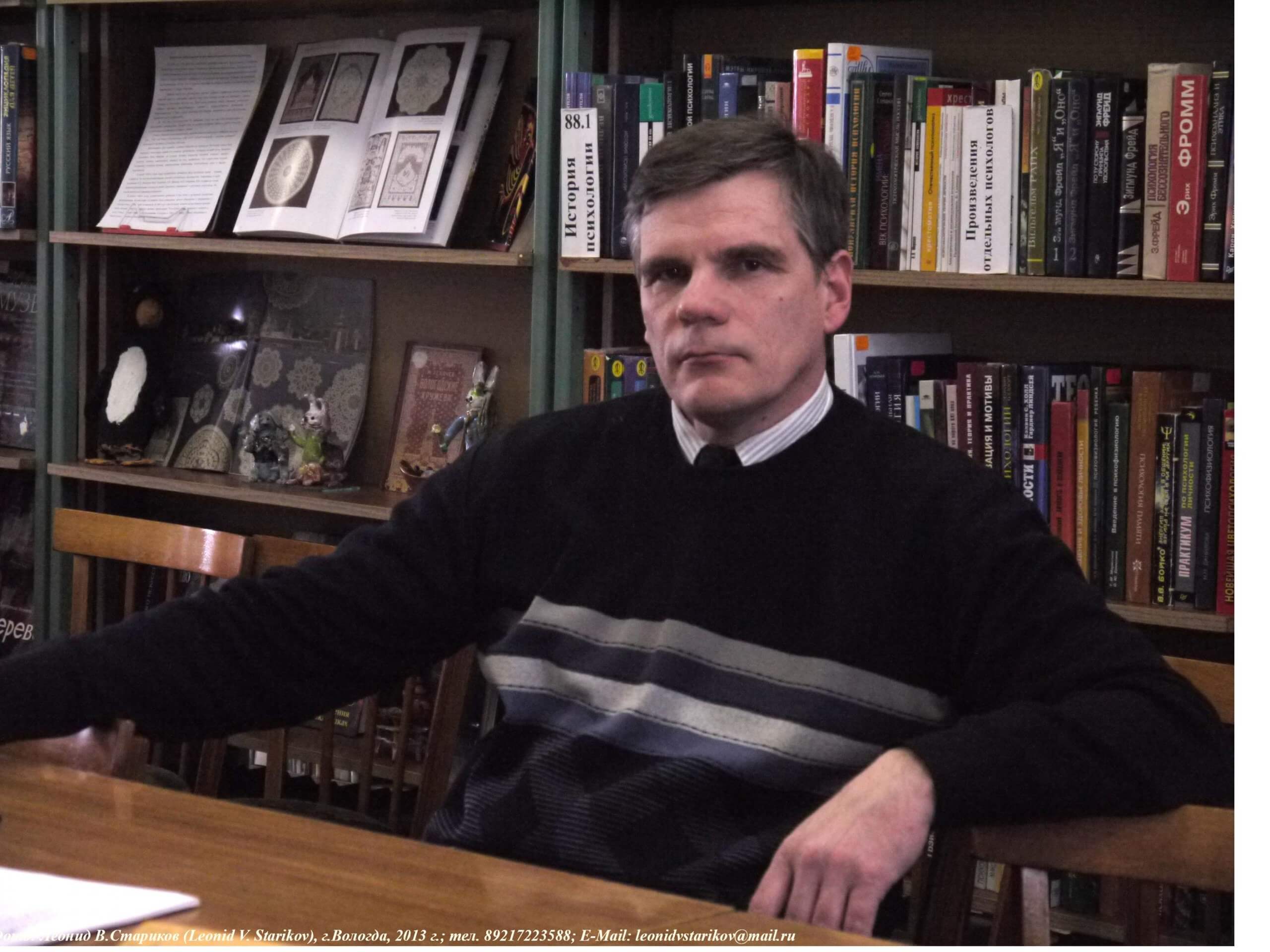
 11
11  381
381 





