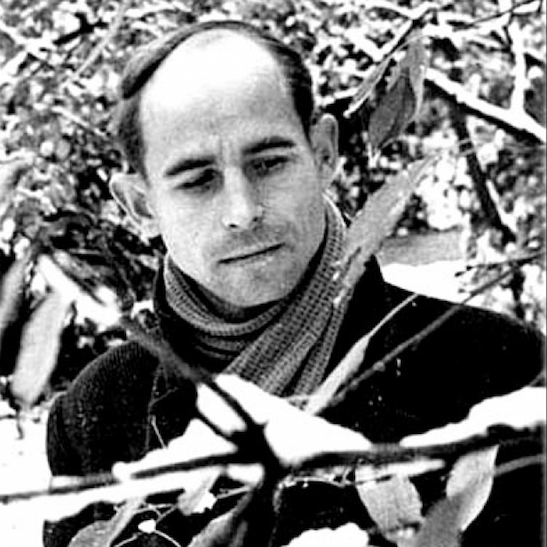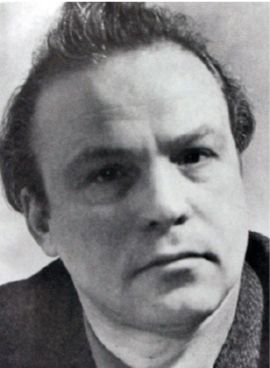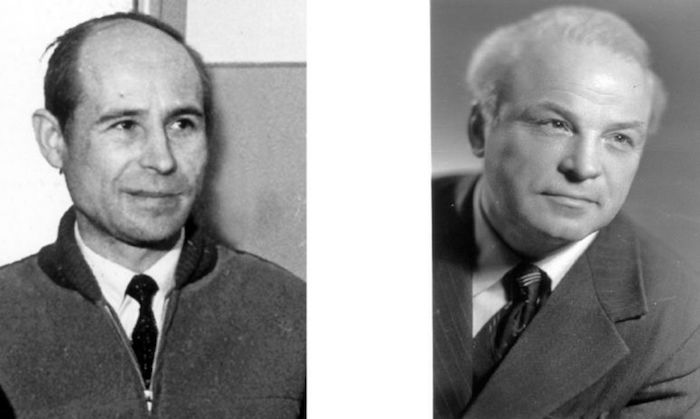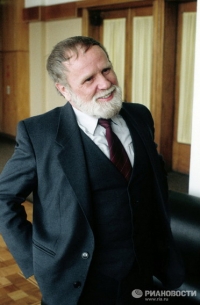ВЫСШЕЕ СОСТОЯНИЕ
Мир к Сергею Чухину был во многом несправедлив. Отпуская от всех щедрот своих самую малую долю, он его отталкивал от людей, которые жили благополучно. Но поэт ни на что на свете не обижался. В его характере переплелись безалаберность чудака, покладистость доброго семьянина и одержимая страстность творца, смело взявшегося сказать о многом несколькими словами. Сказать от имени тех, кого он любил. Любил же Сергей Валентинович многих. Сколько житейских историй я от него услышал, когда он рассказывал о своем крутонравом отце. О Николае Рубцове. О машинистах, с которыми каждую осень ездил куда-то под Коношу на болото за клюквой. О коммунисте Горынцеве, скульпторе Брагине и других многочисленных земляках, с кем встречался поэт на улицах Вологды, в деревнях и райцентрах, в автобусах и вагонах. Каждый рассказ его был по-особому интересен. Десятки готовых портретов! Их бы Чухину записать. Однако до прозы Сергей Валентинович был не охоч. Хотя, разбирая его стихотворный архив, я встречал в нем несколько очерков и рассказов.
Поэт был участливым человеком. Если бы позволяли ему обстоятельства и набитый деньгами карман, то, наверное, помогал бы он каждому, кто страдает. Правда, помощь эта нет-нет да и подводила.
На «Заре», которая мчалась по Сухоне к Вологде, он однажды столкнулся с почти умирающим пассажиром. Было видно, что пил человек не день и не два, и что к жизни его возвратить могла только водка. Чухин, имея в портфеле бутылку, распечатал ее и налил в стакан. И понес стакан через весь пассажирский салон. После выпитой водки страдалец приободрился. Сергей же смешался, ибо «Заря» в этот миг причалила к пристани Тотьмы, и речники, взяв поэта за локти, не церемонясь, спустили его с теплохода.
Такие конфузы его огорчали и выбивали из колеи. Чувствовал он себя виноватым. Пытался исправиться. И исправлялся. Но ненадолго.
Опять повторялся подобный случай, когда предстояло кого-нибудь «выручать». Вроде, хотел и хорошее сделать, а получалось — наоборот. И виновата была здесь скорее не жалость, а бескорыстность. Бескорыстность была для поэта естественной частью его состояния. Она перешла к нему по наследству. Мать поэта Нина Васильевна, женщина редкой душевной мягкости, никогда не ругала Сережу за шалости и причуды, благо знала — это не главное в нем. Главное — нежность. Неси ее, сын! И Сергей ее нес. Не кричал о ней, часто даже скрывал, чтоб над ним не смеялись. Нежность к матери и семье, к речке Ёме, к цветам и березам, к людям, особенно к тем, которые в нем разглядели не только безвредного чудака, рыболова, работника, но и поэта. Поэта, который в долгу перед всеми и, сознавая себя многоопытным мастером слова, долг этот он с радостью отдавал. Да и сейчас отдает, ибо стихи его стали собственностью народа.
Поэт — это Бог красоты, самое высшее состояние. Кто-кто, а Сергей Валентинович был в таком состоянии многократно. Но бывал он и в низком, когда предстояло думать о хлебе насущном. Под брови ложилась морщинка решимости человека, которому надо каким-нибудь образом выправить жизнь. Найти где-то денег. Купить для дочурки подарок. А Тоне, жене, непременно сказать, что его собираются напечатать. Однако такое он Тоне не говорил. Свои талантливые стихи он не умел устраивать ни в издательствах, ни в журналах. Разве только в газетах. И то далеко не в каждой и далеко не всегда. Потому и жил по пословице, как впрочем, и все поэты в России: в одном кармане пусто, в другом — ничего. Однако от бедности хуже стихи не писал. Напротив. От книги к книге все мужественнее и четче звучал его поэтический голос. Пожалуй, самым священным и вещим образом был для поэта образ России. Россия для Чухина — это дорога. Дорогу эту видать и сейчас. Там, в божьих далях, искрится золотом света обломный край облака над закатом. Под облаком — сжатое поле, река с сенокосным сараем, налитые теменью ели и пышная, вся из усыпанных листьев, дорога, которой, мерцая очками, ступает в своей желтоплечей, не знающей старости куртке Сергей Валентинович Чухин. Ступает, чтоб вновь навестить свою мать. Сколько раз приезжал он в свое Погорелово! Приезжал по весне и лету, но чаще — по осени. Чтобы убрать в огороде картошку. Наносить из лесу грибов. Сбегать с удочкой на пруды за ленивыми карасями. И еще посмотреть на гонимых ветрами северных птиц, как они пролетают стаями над деревней. Посмотреть — это значит, почувствовать связь с миром тех, кто высок, благороден и смел.
Родился Сергей Валентинович в октябре 1945 года. Сорок лет понадобилось ему, чтоб явить себя миру. Нелепая смерть, как нарочно выбрала тот подлый вечер, когда поэт возвращался домой из гостей, и последняя улица, на которую он ступил, пытаясь ее пересечь, несла на него резкий ветер и снег, и он не увидел мчащуюся машину.

Россия. Родина. Рубцов. Одна из лучших, если не самая лучшая из работ, передающая подлинного Рубцова. Художник Валентин Малыгин
РЯДОМ С РОДИНОЙ
Сегодняшний день и Рубцов? Иногда я вижу его, вступающего в зал, где все места заняты. Вступающего не через дверь. А прямо через каменную стену, которая при этом остаётся целой. Словно пришёл сюда Гость. И улыбается во всё своё нестареющее лицо:
— Явился к Вам, чтоб сказать всем неверующим: без поэзии, так же как без любви и милости, нет России!..
Любимец Рубцова, он же его учитель и вдохновитель Александр Сергеевич Пушкин сказал:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа…
Не знал Александр Сергеевич Пушкин, что, говоря о себе, он говорил и о Рубцове, певце, который спустился на нашу землю без малого через сто лет после него. Так же как не знал Николай Рубцов того, что, говоря о Пушкине, он одновременно скажет и о себе:
Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье своё,
Отразил он всю душу России
И погиб, отражая её.
Не по собственной воле оказался Рубцов в Никольском, где родным его домом стал детдом № 6. Здесь, ещё в школьном возрасте писал он стихи. Стихи эти не сохранились. Были они сожжены в детдомовской печке вместе со стенгазетами, куда они время от времени помещались. Да и не жаль их, потому как они никакой поэтической ценности не представляли. Лишь отмечали опыт, с каким подрастающий мальчик год за годом приближался к духовным высотам, на которые в нужный час и взойдёт, как великий певец. Восхождение же своё начал Рубцов именно здесь, в Никольском, или в деревне Никола, как он любил называть эту весь. Только за летне-осенний сезон 1964 года он написал 39 стихотворений. И почти все — шедевры. Стихи эти стали классикой русской литературы. Почему легли они на душу нам, как выражение высочайших человеческих чувств? Да потому, что писал их поэт с любимой земли.
Но что Емецк с Никольским объединяло? Ведь между ними пятьсот, не менее, километров. Емецк — место, где появился крохотный Коля Рубцов. Никольское — географическое пространство, где он ощутил себя на родительской почве, той самой земле, что была пройдена его предшественниками по роду, жившими здесь во все времена. Вот он ключ, открывающий дверь в хранилище, где ответ: почему Рубцова всегда тянуло в Николу? Да потому, что интуитивно с помощью собственных чувств и предчувствий он ощущал здесь свою настоящую родину, ту самую, где были когда-то все родственники его. Однако произошел пересмотр главных ценностей русского бытия, и всё пошло окольным путём. Пришлось бежать и даже скрываться во имя того, чтоб спастись. Бежать с исконной родины на чужбину.
А она, сокровенная родина в каких-нибудь 50 километрах от полюбившейся поэту деревни Николы. На берегу речки Стрелица. Здесь у родителей будущего поэта Михаила Андрияновича и Александры Михайловны Рубцовых родились первые дети: Надежда, Таисья, Галина. В этом краю, переполненном сенокосными гладями, ягодными лесами, весёлыми ливнями, пляшущими в водах реки золотящимися лучами, должен бы был родиться и Коля Рубцов. Однако зигзаги судьбы увели отсюда Рубцовых. Увели в иные края, включая Вологду, Емецк, Няндому, снова Вологду, а потом — в никуда. Произошла катастрофа, сравнимая разве с крушением поезда, мчащегося по рельсам. Крушение двух миров. И если один из них из последних сил цеплялся за почву, которая кормит, то второй — строил на этой почве социализм, ставший предтечей трагедии, которая выморила деревню.
Лесная опушка, кузнечики на лугу, речка с плывущей по ней утиной семейкой. Всё это было и есть как на Стрелице, так и на Толшме. И тут, и там красота, с какой сравнимы разве угодья роскошного рая. Вот почему маленький Коля Рубцов в окрестностях тихой Николы ощущал себя сыном здешних полей, деревень, косогоров, лесов, ручейков и речек. Здесь было ему свободно и смело, как если бы он резвился на берегах бойкой Стрелицы, где прошло обитание нескольких поколений его православной родни.
Речка Толшма. Так много о ней уже сказано. Речка Стрелица, считай, не сказано ничего. Но это пока. Хотя и сегодня мы знаем, что на её берегах жили былинные люди. Сильные духом и благородным влиянием на людей. Один из них — приходский священник Феодосий Малевинский. Как продолжатель дела своего отца, он закончил Вологодскую духовную семинарию и в 1895 году был рукоположен в сан священника. Всю свою жизнь вплоть до 1918 года Малевинский истово служил прихожанам Спасо-Преображенского храма. С первых дней Советской власти он выступал за сохранение церковного монолита. Красотой и величественностью завораживали возвышавшиеся над селом Спасским два храма во имя Преображения Господня и во имя Рождества Богородицы. И вот не стало их, не смотря на то, что Малевинский положил все свои силы, всю свою душу, чтоб уберечь их от разрушения. Для прихожан своих был Малевинский ярким примером служения Отечеству, Богу, Царю и Русской земле. Как заступника собственного народа его ввели в разряд ярых противников Советского государства. Трижды он испытал на себе казуистику большевистского правосудия, приговорившего его в 1937 году к расстрелу. 19 января следующего года приговор был приведён в исполнение.
19 января, но уже 1971 года был убит и Николай Рубцов. Невероятное совпадение. Как если бы назначение дня смерти обоим героям занимался кто-то из высших судей, служивших, однако, Дьяволу, но не Богу.
Так спросить торопило его предчувствие неземной тишины. И надо было не опоздать. Ибо день смерти, как священнику, так и поэту был заведомо обозначен.
19 января 1938 г. — Малевинскому.
19 января 1971 года — Рубцову.
Дату эту определил секретарь неведомой канцелярии, служивший, однако, дьяволу во плоти, кто не мог допустить, чтобы голос Поэта услышало Время.
ВЫСОКАЯ НЕВИДИМКА
Ночи нет, а темно. Мрак на родину наступает. А во мраке, как тени, посягнувшие на страну завоеватели русских земель, кому нужны наши села и города, наши женщины, наши души.
1539 год. Город Тотьма. Орда казанских татар спалила город дотла, увела в свое рабство самолучших девушек и молодок. Забрала с собой и детей, запаковав с головой в берестяные корзины, приторочив их к трясущемуся седлу. Остальных тотьмичей — под секиру или в огонь.
Спаслись лишь везучие, кто успел схорониться в колодцах и ямах.
Несчастные погорельцы. Куда им теперь? Остаться в выжженном городе — на такое решились лишь единицы. Большинство пошло Сухоной. Кто-то вверх, кто-то — вниз. Останавливались, кто где. Кто — на Песьей Деньге, кто — на Печеньге, кто — на Толшме. Находились и те, кто приткнулся к далёкой Стрелице. Выбирали места, где бы были болота, и они не пустили бы конницу ворога к новостройкам.
Тотьмичи и теперь верят в то, что деревни по склонам Сухоны образовались от рук плотников-погорельцев. Кто из них остался в памяти у людей? Разумеется, тот, кто сумел отличиться в схватке с непрошеными гостями.
Русское средневековье тем и было обезображено, что отовсюду на Русь шли враги. Вслед за казанцами — крымчаки, турки, поляки, литовцы, немцы.
Память давнего летописца сохранила нам отголосок Руси времён Василия Шуйского, когда по Сухоне вверх и вниз сплавлялись на лодьях вооруженные ляхи, дабы поживиться бесплатным добром. Повсеместно против головорезов выступали местные мужики. Бывало, что и успешно. Но побед, как правило, добивались они ценой своей жизни или увечья, которое оставлял на теле русича иноземный булат.
Таким глубоким рубцом на лице был в ту пору отмечен один из самылковских доброхотов. Деревня, как стояла, так и стоит на берегу речки Стрелица. Только раньше в ней жили люди, а теперь — никого. Может, и в самом деле отсюда в будущее пошла не фамилия храброго человека, а кличка его. Кличка Рубец повела за собой и фамилию, родившуюся в бою. От Рубца — Рубцов. От Рубцова же — все другие беспрозвищные Рубцовы. Так и пошло ветвление рода с выходом новых его ветвей к берегам соседнего обитания. Больше всего сохранилось Рубцовых вдоль по Стрелице. Кто-то из стрелицких старожилов обрисовал сегодняшних Рубцовых несколькими словами: «Кареглазые, высокого роста, готовые постоять за товарища, вспыльчивые, редкостного таланта, любят гармошку и русские песни в работе истовы и серьёзны…»
Примечательно также и то, что почти все нынешние Рубцовы пошли от родителей-землепашцев. Всех их вырастила стрелицкая деревня, научившая работать и жить от земли.
Бывал ли поэт Николай Рубцов на родине предков, то есть на речке Стрелице, что впадает в Сухону на левом её берегу, пробираясь сквозь заросли тальника и луга к вольным водам большой судоходной реки? Оказывается, бывал. Об этом свидетельствует Дина Павловна Киселева, в девичестве — Быкова, уроженка села Бирякова. Она рассказывает, что Рубцов стал приезжать в Биряково вскоре после того, как покинул Никольский детдом. Всего скорей с 1951 года, когда ему было 15 лет. Он не имел еще паспорта, и был привязан к Тотемскому лесному техникуму, где учился. Дина в то время была ученицей начальной школы. Рубцов дружил с ее старшими братьями. Дружил и с другими ребятами Бирякова. Они ему, как своему человеку, даже и место жительства подыскали. В дни приезда сюда квартировал он у Борисовских. Хозяйка дома Надежда Анемподистовна обитала с двумя сыновьями, была очень доброй и в доме ее постоянно жил тот, кому требовался ночлег.
Биряковским ребятам Рубцов понравился сразу, как только бережно принял гитару. Гитару же привозил из Вологды Юрий Зуев, любимец местных юношей и девчат, кто покорял собравшихся не только искусной игрою на семиструнной, однако и пеньем романсов и оперетт. Песни и подружили Юрия с Николаем. Играли и пели оба, как соревнуясь. Дина тем и выделила Рубцова, что запомнила его, как красивого моряка, одетого в темно-синие брюки, такую же куртку с матросским воротником, и смело блещущими глазами, которые, ей казалось, видели всё.
Далекое прошлое. Иду по нему, как по комнатам нежилого дома, в котором когда-то кипела жизнь. Тишина и глухая настороженность. Неожиданно слышу говор гармошки. Конечно же, это Сережа Прокошев — светловолосый, в рубашке с распахнутым.
О том, что бывал Николай на родине предков, подтверждает и педагог Никанорова Катерина. Бывал он здесь, и в 1953-ем, и в 1954-ом, и даже в 1958-ом. Во все эти годы женщины видели не однажды фигурки ребят, уходивших в сторону Голубей, куда приплывал из Вологды пароход. Туда уходили они, как разведчики, тихо-тихо. Обратно же, как из театра, разливаясь стрелецкими соловьями.
Рубцова тянуло всегда к этим сказочным пажитям, где обитали его предшественники по роду. Не однажды бывал он и в доме своих родителей в Бирякове, когда ехал откуда-нибудь в Николу, или куда-нибудь — из Николы. В Бирякове была у автобуса остановка, и все, кто в нём ехал, заходили на автостанцию, где иногда продавали к чаю дешевые бутерброды. Так что родительский дом, переехавший из Самылково в Биряково, был поэту знаком. Но знаком как нечто случайное, что встречаешь и забываешь, не зная того, что здесь, в этом доме жила твоя мать. И отец твой тут и жил. И бабушка с дедом. Только никто об этом поэту не говорил.
Напротив Самылкова, на другом берегу — село Спасское. Здесь когда-то стояли две церкви Стрелицкая Спасо-Преображенская и Рождества Пресвятой Богородицы. Протоиереем здесь был Феодосий Евгеньевич Малевинский. Авторитетнейший человек, кто себя проявил, как талантливый пастырь и педагог, как историк и археолог, как этнограф и автор трудов о жизни северного кретьянства. Мало того,Малевинский нес большую общественную работу по насаждению в приходе духовной культуры. Благодаря ему открыласть в Спасском церковно-приходская школа. При ней — библиотека-читальня. Из обучавшихся в школе были отобраны талантливые исполнительницы церковно-славянских и русских народных песен. Одним словом, сложился хор певчих. По воскресеньям и праздникам певуньи потчевали прихожан красивым многоголосьем. Кстати, одной из участниц хора была Александра Рычкова, будущая мать поэта Рубцова.
Надо было не только слушать, но и смотреть, какое удоволение, какое счастье играло на лицах стрелицких прихожан, когда они посещали церковную службу. Сам вид священника, крест в его богатырской руке, высокие, словно с облака полетевшие голоса нежных певчих, зажженные свечи, лики иконостаса — всё это охватывало порывом светлейшего совершенства. Словно сказке радовалась душа, получив энергию созидания. Люди, право, теряли свой возраст, молодость шла навстречу, и где-то там наверху улыбался сам Бог.
Малевинский знал всех Рубцовых — и малых, и старых. Михаила и Александру, отца и мать Николая Рубцова, венчал самолично, благославляя их в путь, который им принесет многочисленные удачи.
Удач хотелось и самому. Однако в последние годы Феодосий Евгеньевич их не видел. Вместо удач — сплошные потери. Особенно тяжело Малевинский переживал крушение храмов. Сколько было хождений по кабинетам, уговоров и споров, требований к хозяевам новой власти. И всё напрасно. Стоявшие рядом, как сестры-близняшки, церковь Спасо-Преображенская, как и Рождества Святой Богородицы, были приговорены к убиению. Они, как сказали священнику в райисполкоме, мешают строить новую жизнь. Снесли и ту, и другую.
— Как быть-то теперь? — спрашивали сердобольные прихожане. — Как жить-то нам всем без наших любимых?
Феодосий Евгеньевич чуть ли не с бранью поносил большевистскую власть. Потому в беседах и проповедях с людьми всё тверже провозглашал то чудесное время, когда на земле почиталась вера в Бога, Царя и Великую Русь.
Кто-то из очень советских решил, что священник — не наш человек. Написал, куда полагается.
Малевинского взяли. Взяли не в первый раз. Даже не во второй. В третий…
Каждый трудящийся в этом мире, кроме всего обретенного, владеет еще и собственной жизнью. Кто ею может распорядиться? У Малевинского — тройка из главных советских контор, исполнителем у которых — красноармеец с наганом.
У Рубцова — женщина, посланная антихристом из потёмок. Ссора Рубцова и Дербиной. Тяжёлая ссора, когда каждый считает себя только правым, и на этом стоит, как столб.
Есть, однако, предел, за который не заступают. Ибо там, за запретной чертой и скрывается твой казнитель, который не ведает, что творит.
Рубцов почувствовал пальцы, которые взяли его за горло. Физически был он сильнее, чем Дербина. Для того, чтоб от пальцев освободиться, он должен был сам сдавить горло у Дербиной. Но сделать такое ему помешал благородный запрет. Запрет, который он унаследовал от матери и отца, от бабушки с дедушкой, от всей своей благородной родни, чья кровь, будучи вспыльчивой, но разумной, передала ему христианское: «Не убий!» И он сдержал свой порыв. Дербина же не смела остановиться. Боялась, что верх возьмёт не она, а тот, кто спасает её от себя, от своих жёстких рук, которые отказались стать орудием смерти.
Произошло очень, очень ужасное. Душа Рубцова, оторвавшись от тела, улетела в небытие. Она и теперь где-то там, как и душа Малевинского, странствует над лугами, как высокая невидимка, заряжая нас верой в то, чего нет, но должно же когда-то и быть. Сердце наше волнуется. Словно мы оказались в берёзовой роще над чистой Стрелицей, где вот-вот запоет соловей, приглашая туда, где всю жизнь служил Господу Малевинский, и куда, сам не зная того, торопился Рубцов. Торопился, как состоявшийся обладатель неслыханного богатства, которое он сейчас раздает бесплатно неумирающими стихами для того, чтобы всем нам теперь жить, жить и жить.
И ещё. О последней мечте. Родись бы Рубцов лет на двадцать раньше, то встретился бы с Малевинским не как младенец со стариком, а как мужчина с мужчиной, и мог бы, пожалуй, спросить у него о том, что носил в последнее время в глубинах сердца:
— Хотел бы я написать поэму об Иисусе Христе?
Что бы на это ответил ему Малевинский?
Так спросить торопило его предчувствие неземной тишины. И надо было не опоздать. Ибо день смерти, как священнику, так и поэту, был заранее обозначен.
19 января 1938 года — Малевинскому.
19 января 1971 года — Рубцову.
Дату эту определил секретарь неведомой канцелярии, служивший, однако, дьяволу из ночи, кто не мог допустить, чтобы голос Поэта услышало Время.
БЫЛА ТЫ ЗЁРНЫШКОМ
Лидия Теплова, Лидия Теплова. Тем, пожалуй, она и взяла, что прочитав два-три Тепловских стихотворения, спешишь тотчас же к четвертому, к пятому, и ко всем остальным, какие она нам, читателям, подарила, как нечто новое, чистое и большое. Казалось, пишет она рукой, которую ведёт по бумаге сам ангел, умеющей видеть души людей во всех проявлениях жизни, где есть сострадание, жалость, природа, родина и любовь.
Родилась Лидия Михайловна в деревне Медвежка Усть-Цилемского района Коми АССР. Там и прошло ее детство. На постоянное жительство в город Сокол она переехала после местной десятилетки. Работала на целлюлозо-бумажном комбинате и в редакции газеты «Сокольская правда». С детских лет писала стихи. Печаталась в журналах «Север», «Аврора», «Слово», «Роман-журнале хх век». Выпустила книги «Крик в ночи», «Мишкин год», «Песня травы».
Стихи Лидии Тепловой воспринимаешь как саму природу, которой выпало счастье пребывать там, где плещутся воды Печоры, Вычегды, Сухоны и Двины. Эти реки поэтесса прославила навсегда. Ее образы настолько конкретные и живые, что подчас и саму поэтессу воспринимаешь, как северную реку. Хотя могла поэтесса быть и деревней Медвежкой, и зёрнышком, ставшим яркой травою, и колокольчиковым цветом лугов, и телом убитого солдата, лежащего в чистом поле, и бубенцами купальницы в гриве кочек. Лирический герой Тепловой растворился в мире березовых рощ, темных ельников, в ветре, поплывшем к божьему горизонту и даже в траве, по которой ходит корова. Образы исключительно народные, запоминающиеся, яркие, очень живые. Потому и ощущение от стихов такое, как если бы их мог написать одновременно поэт очень тонкий, и очень мощный. Почти каждое стихотворение Тепловой — это грусть и печаль, а может быть, и поминки по самому светлому и святому. Стихи её выворачивают душу, заставляя вместе с поэтом сопереживать, прощать, радоваться, любить.
Как жаль, что Лидии Тепловой нет сейчас с нами. В свое время о ее оригинальном творчестве высказывались Ольга Фокина, Виктор Бараков, Андрей Смолин, Артём Кулябин, журналисты « Сокольской правды». И все равно творения ее несут немало загадок и притяжений. Лидия Теплова до конца не разгадана. Слишком щедро поселились в ее поэзии задевающие наши сердца тайны русской души. Любопытно высказывание о поэтессе руководителя литературного объединения «Сокол» Артёма Михайловича Кулябина. Вот что он пишет на страницах журнала «Лад»:
«В наше неспокойное время, когда смещаются границы добра и зла, рушатся казавшиеся незыблемыми аксиомы, настоящая поэзия становится неким нравственным ориентиром. Читатель ищет в стихах ответ на духовный вызов времени, на вечные вопросы человеческого бытия. Когда планету одна за другой настигают природные катаклизмы, глобальные катастрофы, впору задаться вопросом о роли и месте человека во Вселенной.
Ответить на этот вопрос помогают стихи вологодской поэтессы Лидии Тепловой. Читаешь их и будто бы проходишь через незримый нравственный фильтр, невольно становясь частью поэтического мира Тепловой. Рой чувств рождают в душе эти стихи, заставляют глубоко задуматься о вечном и преходящем, о житейском и космическом…
Творчество Лидии Тепловой ещё не получило должного критического осмысления. Видимо, пока не пришло время. Да и сами стихи Тепловой рассыпаны по малочисленным сборникам, а также страницам газет и журналов. Многие строчки попросту не дошли до широкой читательской аудитории. Но хочется надеяться, что в ближайшем будущем это обязательно произойдет».
Помнится, лет 15 тому назад в одном из концертных залов Вологды прошел большой литературный вечер. Не было на нем Лидии Тепловой: болела. В тот вечер ее заменил Василий Иванович Белов, предварительно сообщив:
— Прочитаю сейчас стихотворение «Последняя песня глухаря». Написала его наша вологжанка Лидия Теплова, поэт от Бога:
Да, глухарь я! Глухой! Посмейся!
Да, глухой я, когда пою.
Ты мне в голову, в голову целься,
Но не целься в глухарку мою.
Да, глухой, но тебя я слышу,
По дыханью тебя узнаю.
Ты мой хвост над кроватью вывешай,
Но не целься в глухарку мою!
Много здесь глухарей убито,
У болотечка на краю.
Ты стреляй, пока сердце открыто,
Но не целься в глухарку мою!
Да стреляй же! Картечью, дробью…
Я оглох уже, я пою!
Подавись глухариной кровью,
Но не целься в глухарку мою!
Впрочем, бей и её, помолившись,
Раз уж выбрал нас на убой.
Пусть хоть дети мои, не родившись,
Не унизятся перед тобой!
По прочтению стихотворения зал взревел. У многих в глазах заблестели слезы. Поэтесса воистину выразила состояние русской души, когда её расстреливает добытчик, тот сокрушитель всего сокровенного и святого, чем живет праведный человек.
СТАВКА НА ЖИЗНЬ
Поэтический бум 60-х годов охватил все города страны. В том числе и нашу уютную Вологду. Это было златое время таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, Рождественский, Викулов и Орлов. Рубцов даже в Вологде был тогда еле слышен. Куда его громче были Чулков, Романов и Коротаев.

Виктор Вениаминович Коротаев воистину был кумиром у вологжан. Поэт брал лихой напористостью стихов, в которых звенела удаль и бесшабашность. В то же время стихи его отмечали походку страны. В них были главные повороты и норы жизненных проявлений, где зло и добро устроили поединок, и хотелось понять, кто из них победит.
Первые книжки поэта шли в народ с горячим успехом. Встречи в домах культуры, в библиотеках, в строгих партийных залах, в школах, техникумах и вузах. Всё шло лихо и интересно. Коротаева нарасхват приглашали туда, где шли азартные споры, где ожидающие глаза, где человеку хотелось почувствовать живость слова, и как это слово может вызвать в груди щемящий переполох.
Всем слоям населения Вологды был Коротаев угоден. Его обожали и молодые и старики. Даже партаппаратчики испытывали к поэту повышенный интерес. Были, конечно, и те, кто Виктора не любил. Пускался в ход пошлый слух, мол, Коротаев везде любимчик. В любой кабинет обкома войдет, открывая высокую дверь не рукой, а ногой.
Ногой — сильно сказано. Но то, что поэт появлялся в любых кабинетах, будь они, хоть того значительнее и выше, так в этом нет ничего и плохого. Так всё и было. И делал это поэт не в личных целях с тем, чтоб чего-то выпросить для себя, а исключительно, лишь для дела.
Коротаев многие годы руководил Вологодской писательской организацией. Для неё он собственно и старался. Для неё и к высоким боссам вынужден был время от времени заходить. И его там, вверху, в большинстве своём правильно понимали. Помогали кому-то из юных талантов с работой, жильём, с переездом в Вологду из района. Так благодаря содействию Коротаева, хождению его по инстанциям переехал из Грязовца в Вологду замечательный лирик Сережа Чухин. Или приехала из Сибири в Вологду очеркистка Людмила Славолюбова. Приехала посмотреть: понравиться ли ей наша Вологда? Посмотрела. Понравилась. Здесь и осталась, заполучив в центре города привлекательную квартиру. С той же целью приехал к нам из Перми Виктор Петрович Астафьев. Тоже хотел понять: уживется ли он здесь с вологодским писательским коллективом? Понял, что уживется. Потому вместе с женой, тоже писательницей Марией Семеновной Корякиной, здесь и обосновался. Уговаривать, убеждать, защищать хорошего человека, сделать что-то доброе для него — это было у Виктора Вениаминовича в крови.
Удивляла энергия, с какой поэт успевал справляться со всеми делами, оставляя время и для стихов, которые мог писать где угодно, даже на улице, когда шел из дома в писательскую контору или когда сидел на каком-нибудь скучном собрании, в конце которого мог сам себя же и похвалить: «Успел! Спасибо тем, кто наводил здесь тоску. Стихотворение, кажется, получилось!»
В своё время мысленно я Коротаева сравнивал с Цицероном. Благо не раз и не два был свидетелем того, как Виктор Вениаминович одновременно мог вести пять, а то и шесть дел. С кем-то разговаривал по телефону, кому-то пожимал бодро руку, время от времени взглядывал на свежее стихотворение, которое только что принес ни в чем не уверенный юный лирик, и даже кивком головы послать бессменную секретаршу Елизавету вниз к горкомовскому вахтеру, чтобы та принесла сюда почту.
Поэт, хозяйственник, администратор, шутник, душка-руководитель — сколько качеств в одном человеке! И в каждом качестве был Коротаев — непревзойдён.
Удивительно, когда и как к делам поэтическим он мог добавить еще и прозу. Успев и тут проявить себя, как занимательный беллетрист, выпустив роман про убийцу Николая Рубцова «Козырная дама» и сборник рассказов «Стояли две сосны».
Многие писатели в 90-е годы, когда пошла гулять по стране рыночная стихия, оказались застигнутыми врасплох. Коротаев, один из немногих, не растерялся. Совместно с рыночными партнёрами открыл издательство по выпуску книг и брошюр. И в помощь к себе привлек многих оставшихся не у дел вологодских прозаиков и поэтов. Благодаря чему появилось ряд свежих изданий. В их числе и роман-газета на вологодском материале, а также двухтомник Николая Рубцова с наиболее полным выпуском его стихов, а также рассказов о нем и поэтических посвящений.
Виктор Коротаев! Как много о нем уже сказано! Как много о нём еще скажут. Человек-душа. Человек-забота. Весельчак. Наконец, заботливый семьянин. Как он любил жену свою Веру! Своих детей Оленьку с Сашей! Хоть и не часто, но иногда я бывал у него в семье. И всегда ощущал себя здесь своим у своих. Здесь всегда царила атмосфера великодушия, простоты и доверительности друг к другу. Но однажды не стало хозяина. Не представляю, как Вера с сыном и дочерью это перенесли.
Весь внешний вид поэта, привлекательное лицо с оливковыми глазами, цыганская борода, просторная грудь, крупные пальцы рук, к которым никак не подходила ни ручка, ни карандаш, которыми он написал целое море стихотворений, всё казалось бы, предназначено было для долгой, большой и уверенной жизни. И вдруг эта глупая смерть. Смерть в разгаре творческих созиданий, когда создавались новые вирши, выходили новые книги, строились планы, как подключить к делу издания самых талантливых вологжан.
Виктор Вениаминович приехал только что из Москвы. Довольный и радостный оттого, что дела издательские пойдут сейчас круто вверх. Потому и бокал вина выпит был за будущие победы. Кто бы мог знать, что в бокале этом подстерегала поэта смерть. Умер Виктор Вениаминович, может, и сам не поверив в собственную кончину. Был вместе с нами и вот ушел к своим стародавним друзьям. К Николаю Рубцову. К Сереже Чухину. А через две недели будет в этой компании и Леня Беляев: погибнет, спасая жизнь тому, кто не мог себя защитить.
Все они, перлы русской литературы, ушли в поэтический рай с божественными стихами. Все они могли бы подзадержаться на этом свете. Но судьба повернула их в страшную сторону, где ставилась ставка на жизнь. Потому теперь они и не с нами. С нами только их ореол. Он, как памятник в сонном мире, посылающий нам оттуда неувядающие стихи.
Всю жизнь, ходивший против ветра,
Ты для других торил пути.
Лишь два последних километра
Тебя товарищи —
Несли.
В слезах глаза у красных девиц,
Росинки капают с ольхи,
И со старинных полотенец
Кричат напрасно петухи.
Не добудиться, не дозваться —
Не повернуть событий вспять,
А все друзья и домочадцы
Который день не могут спать.
Не осознать пока потери
И мучиться от одного:
Кому звонить, в кого мне верить
И опереться на кого?
Зловеще обнажились дали,
Лишилось крепости вино,
Ах, если б слёзы помогали,
То ты бы встал уже давно.
Напрасны жалобы и стоны.
Не возвратить минувших дней,
Суметь бы только жить
Достойно
Прекрасной памяти твоей.
Так мог сказать Виктор Вениаминович о многих своих друзьях. Так говорил он и о талантливейшем писателе-очеркисте, руководителе Шекснинского района Дмитрии Михайловиче Кузовлеве. Так мог сказать он и о себе.
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Борис Александрович Чулков. Скромнейший, деликатнейший, знающий высокий потолок поэтов буквально всех времен. Знающий и низкий потолок, ниже которого — не опустись. Иначе ты уже и не поэт. Чулков знал уровень своих стихотворений, какими можно было бы гордиться и требовать от критика не то, чтобы похвал в свой адрес. Скорее — честно заработанной оценки, какую дать могли бы многие читатели Чулкова, помимо тех, кто почему-то относил его к певцам несовременным. Не так, однако, относился к одам и стихам Бориса Александровича Николай Рубцов. Возможно, он ничего бы не сказал о творческой манере вологодского поэта. Но так сложилось в середине 60-х, что когда Рубцов был исключён из института, он оказался как бы в пустоте. И это в то удачливое лето, когда поэт писал в своей Николе настоящие шедевры. Стоял 1964-й. Лето с осенью прожил Рубцов в Николе. Но начались осенние дожди. Куда ему? Приехал в Вологду. Где жить? Какую-то неделю жил в Маурине, за Вологдой, где я с семьей снимал неприхотливую квартирку. Какую-то неделю — у Старичковой жил. Потом к Чулкову перебрался. Считай, всю зиму 1964-65 г.г. жили Николай с Борисом под единой кровлей, недалеко от Вологда-реки. Было двум лирикам о чем поговорить. О чем поспорить. И высказаться о самом-самом, к чему звала нетерпеливая душа.
Надо думать, что Рубцов читал Чулкова как в его книжках, так и в тетрадках, где были только что написанные оды и стихи. Отсюда и внимание друг к другу. И интерес, и понимание. Рубцов в конце концов сказал, как утвердил:
— Боря! Тебя будут читать не все! А только те, кто не торопится, не мчится вслед за временем. Остановись мгновение! Дай тебя я рассмотрю с удобного мне расстояния.
Примерно так рассказывал Чулков о своих встречах с Николаем. Рассказывал не всем, а только тем, кого впускал в свой потаённый мир.
Действительно, в стихах поэта, будь это город, пригород, районный центр, деревня или обычная дорога, какой идет Чулков куда-нибудь к себе, есть задержавшееся время, в которое он всматривается, как состоявшийся философ, умеющий всё, что он видит в этот миг, поставить на свои места. Поставить для того, чтоб получилась многоликая картина. Картина грустного сегодняшнего дня.
Звезда далёкая мигает
Огнем неоновым во двор.
В тепле и ночью дозревает
И огурец, и помидор.
Над задремавшим огородом
Стоит глухая тишина.
И, как тарелка с жёлтым мёдом,
Повисла круглая луна.
Нет, Борис Александрович, не скучный человек. Он — вглядывающийся, с мировоззрением учёного, который желает рассмотреть нечто такое, что было бы так важно для его души. Открытие поэта в том и состоит, что видит он своё. Лишь то, что в данную минуту было интересно не столько хладному уму, сколько взволнованному сердцу
В том памятном 1965, возвращаясь с работы домой, Чулков обычно заставал Рубцова или за чтением книг французских поэтов, или за музыкой, которая заполняла квартиру, и вид поэта, ходившего взад-вперёд с сигаретой по комнате, стол с проигрывателем, где крутилась пластинка, и заоконная панорама морозной Вологды вызывали в нём чувство связи с чем-то возвышенным и чудесным.
Порою Рубцов совершенно не замечал Чулкова, явившегося домой, настолько глубоко уходил в тот возвышенный мир, которым жили когда-то авторы сверхшедевров. Вариации на русские темы Глинки, вальс-фантазия, испанские увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» сменялись второй симфонией и «Ноктюрном» Бородина. А там сам Мусоргский с его оркестровым сочинением «Интермецо», «Скерцо», «Рассвет над Москвой-рекой», равных которым, конечно, нет ни в одной музыке мира.
Нередко хозяин и квартирант вместе крутили пластинки. Вкусы их совпадали. «Времена года» Чайковского в фортепьянном и оркестровом изложении. Второй концерт для фортепьяно Рахманинова. «Классическая симфония» Прокофьева. Музыка к Пушкинской «Метели» Свиридова. Звучал и Стравинский с его фрагментами из «Петрушки», «Оркестровым танго» и «Рэгтаймом».
Музыкальные исполины, когда их слушали два поэта, буквально овладевали их существом. Сами того не замечая, оба они переселялись в неведомый, весь в страстях и волнениях мир. Калинникова они слушали, помаргивая глазами, из которых казалось, вот-вот брызнут слезы. А какой тревогой охватывало их, когда они внимали пятой симфонии Глазунова, той самой, которая грозно звучала по радио в день нападения Германии на нашу страну.
К джазу, полагает Чулков, Рубцов относился прохладно. Равнодушен был и к «Пассионате» Бетховена. А нашенскую попсу, как и американскую, не переваривал, и даже советовал Чулкову вообще никогда не слушать, чтоб не засорять благородный слух.
Очень любил Рубцов «Реквием» Моцарта. Интересовался: у кого бы можно было послушать Дебусси и Пуленка — великих французов, учившихся на музыке Мусоргского, Корсакова и Скрябина.
Квартира Чулкова стала для Рубцова чем-то вроде музыкальной консерватории, где тревожная музыка властно вторгалась в душу его, и он, казалось, всем своим существом прикасался к Вселенной, откуда навстречу ему шли видения и картины, каких ещё не было на земле, и он ощущал себя очень богатым и очень сильным.
Остановись мгновение! Так и хочется повторить вслед за поэтами, ушедшими в мир иной не только затем, чтобы мы их время от времени вспоминали, но и чувствовали высокое настроение, какое они подарили нам, и теперь «рубцовское», как и «чулковское» рядом с нами.

 0
0  186
186