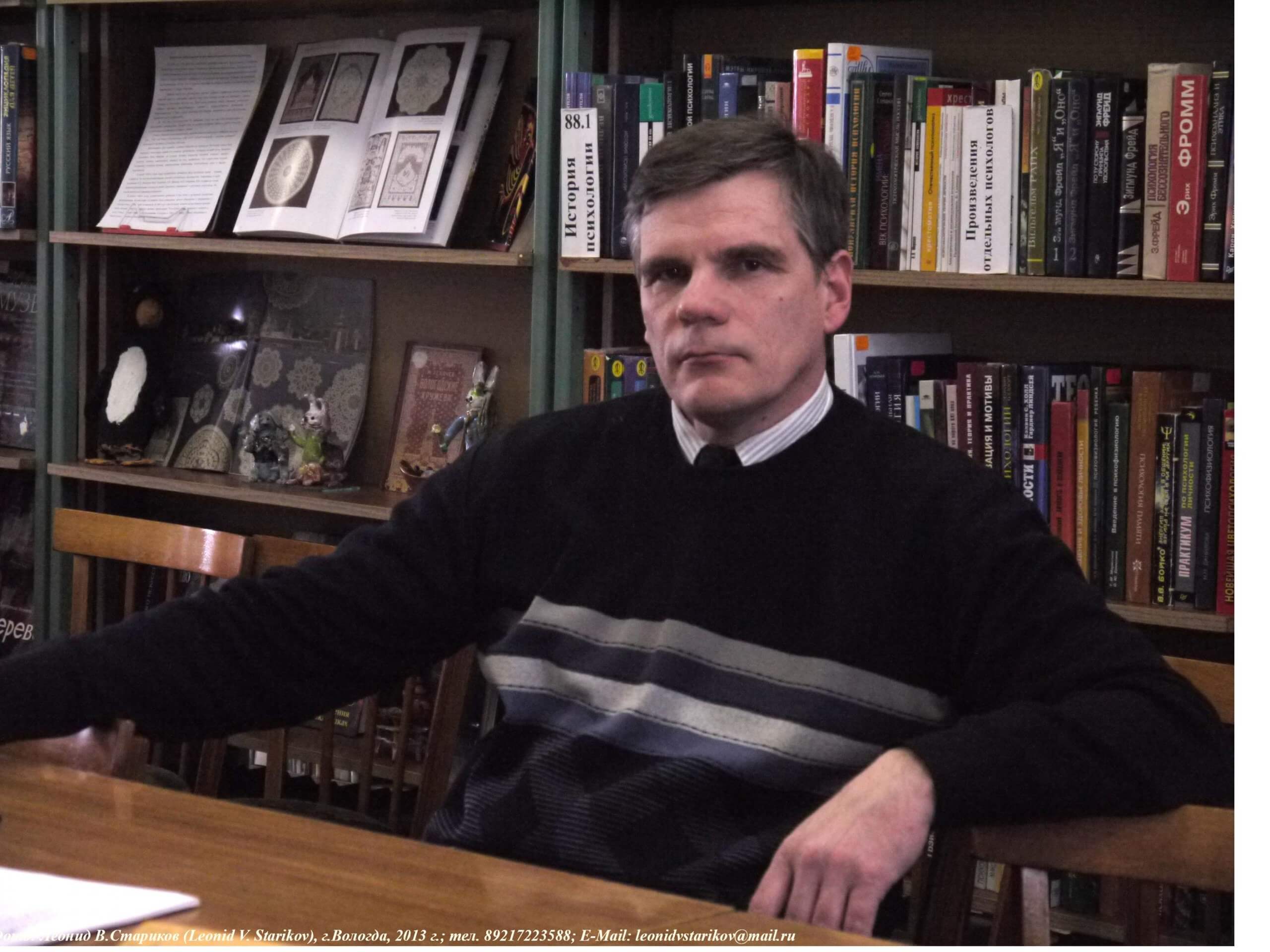Слово о друге
На Святую Пасху не стало большого русского писателя Станислава Михайловича Мишнева… Словно предчувствуя беду, размышляя о Всероссийском литературном конкурсе «Всё впереди», Станислав Михайлович писал: «Уж сколько раз казнил себя и ел себя: не лезь! Нет, опять в реке, опять бреду вверх по течению, только рубаха полощется. Думается мне… это мой последний шанс отметать икру на беловском перекате. Да и вообще пора завязывать. Меня терзают какие-то мрачные мысли… К Вам поступит много материала, и материал будет качественнее моего, (куда мне с тем же Робертом Балакшиным тягаться! да что Роберт − велика Русь, сильна Русь!), и я не обижусь, если не попаду в число избранных, − не по две морошки на ложку»…
А казалось, давно ли удивительный поэт Виктор Коротаев, известный всем открытиями новых писательских имен, зашел ко мне на Урицкого 2 в отделение Северо-Западного книжного издательства и прямо с порога радостно возвестил: «Все спите! А у нас родился настоящий писатель, Станислав Мишнев из Тарноги! Вот почитайте его рассказ «Мельник»! – И передал мне рукопись. Я окунулся в текст и сразу забыл всё на свете. До сих пор за всю многолетнюю редакторскую работу я еще не встречался с подобным языковым чудом! Даже сейчас всей душой ощущаю то счастье, которое навсегда поселилось во мне в те давние ныне времена, когда на правах уже редактора я готовил коллективный сборник прозы «Под большой Медведицей», где в разделе «Книга в книге» была опубликована и первая книжка Станислава Мишнева «Такая она, жизнь…». Потом у нас был прием Станислава Мишнева в Союз писателей, тогда еще на улице Ленина 2 в Вологодском отделении, где опять же произошло маленькое чудо. На приеме присутствовал Председатель Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев, которы вместе со своим сопредседателем Василием Ивановичем Беловым и предложил принять в Союз писателей С. Мишнева открытым голосованием, настолько блестящий талант вологжанина покорил сурового председателя, в первый и в последний раз пошедшего на нарушение писательского Устава. Да и сам Василий Иванович следом пожелал сфотографироваться вместе со Стасом, чего я за многие годы работы с великим писателем уже больше и не знавал…
Затем были книги, – много книг, самобытных и неповторимых: на сегодня у нас еще нет, не появилось на российских просторах мастера такой необычайно образной художественной силы, такого естественного владения волшебным русским словом, каковым Создатель наградил вологодского писателя. Уверен, что впереди всех нас ждут еще светлые и радостные, волнующие любую живую душу встречи с прозой прекрасного писателя и человека Станислава Михайловчиа Мишнева.
Александр Цыганов
Станислав Мишнев
ПИСЬМО ДРУГУ
Друг мой!
Храни тебя Бог!
Опять теребишь меня: «Пиши». Надо! Согласен! Пока жив человек, он частица великого и бесконечного мира. Кажется, я сросся сердцем с деревьями и цветами, с бесхозными разваливающимися домами, со снегом, с одиночеством: могу часами лежать, смотреть в небо, наблюдать за одиноким ястребом, парящим в облаках, а вокруг что-то шевелится, ищет дорогу к солнцу, дышит, перекликается… спрашиваю себя: а что является мерилом мужицкого достоинства? И отвечаю: отношение к земле. Так и пиши, велю себе, – о ней, кормилице нашей! Только это сближает прошлое с настоящим. И, подумав, отрезвляюсь: ты же старый, больной старик, а деревня… эх, деревянная ты моя, «кривой да пегий» остались в деревне.
Когда мне было лет пятнадцать, я смеялся над стариком Николаичем: летом по деревне в валенках ходит. «А то, паря, худая свинья и в Петров день озябла. Доживё-ёшь до моих годов, вспомнишь». Дожил… мерзнет левая нога, тоскует. Суну под одеяло грелку, ноги прижму к ней, мучаюсь, мучаюсь, то ногам жарко − одеяло комом сдвинул, то − как поддувает… едва усну.
Этим годом в деревню приехала гостить или обживаться одна семья: грузная, пожилая, накрашенная, в золоте женщина − по слухам, работает в банке, её дочь, зять − самоуверенный тип, ростом под два метра, и девочка шести лет. Взгляд у парня суровый, даже отрешенный, любит теребить рыжеватую бородёнку. Задумали копать колодец. В районной газете нашли объявление, что фирма «Колодец дешево и сердито» копает быстро, за работу берёт «ну просто смешные цены». Я на ту пору бреду деревней, на деревне «тихо лето» − изрусела деревня народом.
Солнце жжёт, не шелохнет листок на березе. Летит машина, звук такой, ровно орду бесов засунули в железную банку. Приехал из фирмы лысоватый молодец, на ногах сапоги-бродни. Стал из салона вылезать − дверка отвалилась. Дверку на место ставит, кулаком хлоп − как с завода! Матом: «Свою бы на сварку… а тут, фашисты-гады… сплошная химия!..» Берёт проволоку, согнутую буквой «г», и говорит: «Заказ принят. Предоплата 70 % − такое наше условие. Через три дня гоним сюда технику. Самое главное в нашем деле что? − магнитная энергетика. Нужно найти точку… − ладонь ребром кладёт на ладонь. — Восемь на восемь…». «Короче, Склифосовский, − оборвал очень умного «фирмача» двухметровый детина. «И тут «Остапа понесло»: «Люблю, понимаете, витиевато изложить мысль, − соглашается «фирмач». − Режем диагональ». А я стою поодаль − чудеса! — батогом подпираюсь, женщина смотрит, дочь смотрит, девчонка сидит на шее папы. Огород стоит в лопухах. Море дикой травы. Медвежьим бродом «фирмач» пробрёл до поваленной соседской изгороди, потом обратно, на яркое солнце глянул, на почерневшую от времени стену избы, где-то на средине огорода бьёт ногой землю: «Есть! Три эрстеда и не меньше! Во, как провернуло руку!»
Детина принёс ему гнилой кол. Кол кое-как воткнули в землю. «Теперь вертикаль!» Опять побрёл, и к этой вешке вышел. Ликует: «Больше пяти эрстедов!» «Сколько колец заказывать?» − спрашивает зять. «Фирмач» и раз, и два, что жеребец-семилеток лягнул ногой землю, виновато говорит: «Не откидывает. Мне бы…» − выразительно бьёт себя по горлу ребром ладони.
Женщина поднесла «фирмачу» графинчик, налила стаканчик. Тот выпил, занюхал кулаком, и как почал бить ногой землю, аж корни лопухов полетели. «Откинуло! С седьмого кольца откинуло!»
У меня челюсть отвисла: надо же! Даже ноги в валенках вспотели. А раньше, сказывали, как только не ухитрялись место определить, как на воду наткнуться. И яйца сырые под горшок клали на ночь, и шубу расстилали − отсыреет ворс или нет… а теперь стакан водки на лоб, да давай пинать…
Ага, думаю с каким-то злорадством, на семи метрах! И на кой он леший вам сдался, этот колодец, три огурца полить? У соседей выше лет сто назад копали колодец, прокопали двенадцать аршин, а до воды не добрались.
И тут не доберутся!..
…Не пряча горечь, надо сказать честно: молодой писатель – это перевес будущего над прошлым. Старый мерин мирно жуёт свой пенсионный овес, не бьёт копытом, призывно не ржёт, взывая к прелым далям, что разве иногда под настроение от ушей до хвоста пробежит по его телу искра − слабенький романтический импульс в сочетании с трезвым знанием практической (ТОЙ!) жизни, да и погаснет. Стареем, друг мой, стареем. Как найти с читателем новый тон разговора, диспута, убедительный прямой и доверительный тон, ведь писатель – не эксперт, он не знает ответы, которые ставит перед ним завтрашний день?
Старый писатель как не старается заглушить в себе обиду, но не удаётся: он не прощает жизни слома, − наше поколение, и поколение наших родителей власти не приняли в расчет в царствование Бориса, не принимают и теперь. Мы − лишние. Половине мира, некогда дурившей нас строительством коммунизма, можно списать миллиардные долги, а со своего «русака» можно снять последнюю рубаху, он стерпит всё. Наше поколение не пойдёт в толпу, расталкивая локтями, мы ещё живём по принципу «Человек человеку − брат».
И ужели верно, что под солнцем, которому все обязаны жизнью, и маленькая козявка, и корешок, и гений, кто угодно − от Адама до изгоя, — всё суета и томление духа?! А может, это чувство легкой грусти, бесконечная ценность жизни, антитез «прошлое-настоящее», чувство сопереживания, нежелание смириться с бесследным уходом в никуда?..
Что-то жесткое, крутое встает в горле: надо писать, а не хочется. Ни строчки, ни полстрочки. Вроде бы, и не стоит над душой чеховская нянька, никто никого не учит писать, и тему всяк выбирает сам, есть у тебя умение соединять все открытое тобой воедино, расположив на иерархической ценностной лестнице или нет, а как задумаешься над жизнью, станешь воплощать осмысление действительности… не подъёмно! Шальное наше время!
Люди будто знают (а как не знать, на это есть «ящик» и всеядный интернет!), куда они спешат, зачем отдаются течению жизни, куда их вынесет поток и о какие камни ударит. Мне кажется, человек уже давно не спрашивает сам себя: «Кто я?» А ведь человек – это очень маленький корешок, основание могучей в будущем корневой системы, что питает державу нашу. Для кого писать? Или народ наш по-прежнему «самый читающий в мире?». Увидит свет твоя «писанина» или нет? Поговаривают, что скоро в школах исчезнут учебники − а зачем они, если всё можно найти в интернете?..
Лет сорок назад много приезжало в деревни отдыхающей родни. Раскладушки с потолков доставали, прямо на улице ставили, и блаженствовали целыми днями под родным небом. Под вечер, на берегу реки, горели костры, орала музыка, а усталый, изъеденный комарами и мухами деревенский житель с тревогой ждал завтрашний день: как да дождь? Столько ещё сена выставить надо… Деревенские жители завидовали горожакам: мы-де бьёмся, как рыба об лёд, а они!.. «Уробились, пашные… ишь, пузы вывалили…»
Нынче в деревню из городов загорать не едут. Зря. Нынче к ним присоединились бы и деревенские старики да старухи; коров нет, овец нет, всё хозяйство «на спичке», − что разве петух на чьей-то изгороди пропоёт здравицу Господу…
В райцентре один преуспевающий господин завёл лошадь. Увидят ребятишки, сбегутся − о, лошадь! Живая, настоящая! Сколько радости, смеха, открытий! Господин посадит мальчика на лошадку, дозволит озорнику побить пятками бока лошадке, ссадит − гони, малыш, денежку! Кажется, не далёк тот день, когда учитель выведет класс «в поле» − корова мычит! — и станет объяснять ученикам, откуда берутся молоко и масло.
Зимой я был на концерте в сельском клубе. Просто диво: клуб ещё наш, общий, его немного отапливают, и он еще постоит, как говорится, врагам на зависть. И даже есть в клубе начальник: эта неспокойная женщина путается под ногами районных чиновников, где слезой, где ведром ягод отстаивает право на существование этого клуба.
Стужа, зрители сидят в шубах. Артисты приезжие − старики и старухи из соседней волости, они стоят плотным рядом, как взятые в полон вражьей силой древние русичи, поют песню: «Скажи, председатель». Зал плачет…
Кто ответит бывшим колхозникам, через какую дыру улетел их колхоз и куда улетел, зачем намеренно загубили сельское хозяйство, почему грибы пришли к самым окнам, − поля зарастают лесом, почему на пятнадцать деревень ни одной коровы, ради чего отцы и деды живота не жалели?
Но самое страшное не это, самое страшное − нет молодой поросли. Бывший председатель сказал бы: да, сказать страшно. Что там сказать вслух, думать стыдно. Вроде, вины за простым колхозником нет, был он послушным работником, а всё равно не по себе. Страшно назвать истинных врагов своего Отечества, совестно указать перстом в того же Ельцина или Горбачёва, всяких Хакамад и Абрамовичей. Гнев переполняет народ, а что делать?
Уповать на заступничество божье, и только. Кто ответит: почему двадцать лет грабят Родину, губят армию, китайцы и кавказцы хозяйничают на русских полях, воры пишут законы для прожигателей жизни?
Бурлит русский человек, чувствует свое полное бессилие, его охватывает желание чем-нибудь задеть неуязвимую нашу власть, но он боится повредить себе и предпочитает «бурлить» на своей кухне.
Только собрался писать маленькую статью о местном диалекте, глядь, по телевизору Максим Галкин с Аллой Пугачевой баюкают своих пробирочных детей. Ну, надоело!..
… Остаётся одно: или разбить телевизор, или идти в лес. Но и в лесу не найти покою: его рубят, только щепки летят. Трудно сосредоточиться на бытописании деревни, её языка, когда умирает наша деревня…
Говорят, что только Россия возродит морально разлагающуюся Европу. Один раз мы уже спасли Европу от фашизма…
Но как спасти Европу может Россия, если сильные мира сего (свои враги страшнее чужих врагов!) перекраивают Россию по чуждым ей выкройкам, переписывают историю государства Российского, намеренно обваливают союз земли с государством?
Разве в России присутствует некий гнет скудной жизни? Да вы что!.. Нынче колбас полные магазины, пускай колбасы из туалетной бумаги, но колбас много! Товары к нам везут со всего мира, водки − запейся! Мы едим сельдерей из Израиля, будто бы на нашей земле сельдерей расти уже перестал…
Всяк уважающий себя прохвост ездит на иномарке, не уважающий себя лодырь тешится выиграть в «Поле чудес» хоромы шикарнее, чем у того же Баскова. Горбачевскую перестройку стоптали, Стакана Гарантовича похоронили; вроде, третьему мировому кризису голову свернули, тонущие европейские банки удержали на плаву, каждый день наша Дума принимает если не в первом чтении, то во втором, десятки законов; умаслили высокими ставками судей и прокуроров − они уже взяток не берут, гаишники перестали грабить на дорогах мужиков, наши девки самый ходовой товар после Украины на мировых подиумах; мы так раскрепостились, на Запад глядючи, что осталось только Россию признать колонией Англии…
Или нам не хватает естественных возможностей для выражения чувств, страстей?.. Мы так употели на работе, что еле ноги до дивана доносим? − да выражайся ты день и ночь у телевизора: «ящик» напоёт, награбит, настреляет, напляшет до рвоты. «Ящик» «забыл» простенькие, наивные советские фильмы: на «уме» лишь деньги, деньги, деньги… И мы все реже и реже задумываемся над вопросом: «кто мы нынче», а зря!
…Пахарь с сохой давно не «едет» и песен не поёт. И ехать не на чём, и ехать некуда. Был лес, и тот в аренде. В чьей аренде? В чьей, чьей… у кого толще кошель, тот и владыка. Была земля наша, стала − ваша. Чья «ваша?» Да бес знает, чья! Был курятник наш, стал ваш…
Нарушился союз земли с государством. Как обозначить на карте местности деревню, в которую ведёт разбитая в дым дорога одного «дяди», обрушившийся мост через речушку −другого «дяди», лавка продуктовая − третьего прохиндея? И мают день к вечеру в этой деревне зануды пенсионеры, нужные как «ректорат» всего на день голосования? − деревня Пустокормовка. А ведь деревня, только русская деревня, не город, была носителем диалектного русского слова, а значит, хранителем русской речи.
Мы живём нынче в каком-то общественном безвременье. Кажется, и власть есть − просыпаемся вместе с Владимиром Путиным, ложимся с Дмитрием Медведевым, а нет веры ни Путину, ни Медведеву. И самим себе веры нет. Почему? Потому как порядка нет в державе нашей, защиты нет! Кто-то млеет в эстетических восторгах, − мы продаём газа большие всех в мире!
Кто-то считает пенсионные копеечки, и прислушивается, − вот пригонят власти трактора, да сгребут у нас, поселенцев, временно проживающих на родной земле, избенки в кучу…
Хиреют русские деревни, умирают «на корню». Горько! Стыдно! Позорно! Трудно быть певцом-деревенщиком своего сословия (деревни), когда думы всего народа, целого века родной земли, и «однокапельны», − т. е. мыслят в одном направлении, и в тоже время так противоречивы, − в пору воскресить Н.А. Некрасова, да поставить с одной стороны − совесть, с другой − бессилье.
Вот и живи национальный гений, то бишь русский человек, как тебе «прикачнёт» жить. Бичуют русские писатели и поэты (как приятно, что возродились славянофилы, только ещё не оформились в движение) общественные пороки, гнездящиеся на зарубежной идеологии, видят полный разлад слова с делом, в неком сне остались радужные мечты «пожить белым человеком», и… полное бессилие.
Близок Н.А. Некрасов нашему пониманию. У него рефлекторно-скептическое отношение к жизни, страстная любовь к своему народу, вера в народ; то он верил, то сокрушался, одной природе доверял своё истерзанное сердце. Вот истинно так и живут россияне!
И мы доверимся природе, доверимся самобытности деревни. Оплачем слёзной долей русского мужика, вспомним, как «баял» народ лет так полста назад и как нынче «заговорил». Наша речь держится на диалектах. Это киты нашей словесности, нашей грамматики. Акающая «вороватая «Масква» − одно; доверчивая, наивная как ребенок деревня − другое. Из деревень, пусть полумертвых, состоит Россия. Помните Ивана Грозного? − «Земщина и опричнина»? Примерно такой расклад общества.
Диалект − это могучий пласт, залежь, это родник нашего детства, это бальзам на душу уехавшего за лучшей долей деревенского жителя, наша боль и радость. Счастье фамильное, где говорят по-доброму, «цокают» и «щокают», «бранячче да милуючче»! Говор − это узел, который не надо развязывать, наоборот, этот узел «надэ» туже «затягвать», «шщобы» зернышко махонькое словесное не обронить, «нецово» не «потереть». Свой язык дороже всяких богатств земных! Можно рубахи рвать до пупа, до посинения ратовать за свои гектары и сотки, поносить Кремль, а язык сохранить − достойно уважения. Радость, где сохранился диалект русской речи. Свой, местный! Диалект скажет, измельчал народ или нет!..
Летом приезжают городские, особенно московские дачники, как они удивляются, заслышав нашу забавную речь, перевитую не матерными словами, а словами житейскими, корневыми. Так, должно быть, этнограф Миклухо-Маклай заслушивался речью аборигенов Гвинеи. Горожан поражает щедрость деревенских обитателей, простота, наивность. Придёт в дом горожанка луковицу попросить, а ей хозяйка «чельну» зобеньку луку навалит, чаем напоит, пожалеет горожанку. «Пожалиёшь» − станет горожанка скудости избы завидовать − решительно нечего тут ворью делать, то и замков в деревне нет, а у «…меня квартира трёхкомнатная, диваны по сто тысяч, украшений на полмиллиона…» «…можот, дева, не тронут. Нащо жо стоко заводить-то?»
Исчезают ремесла, − исчезают слова, выражения, исчезает живая связь поколений. Много в нашей державе гулящего люда, трудно искать «родину» того или иного слова. Вроде, наше, вроде, и не наше вовсе, и носителей говора остаётся всё меньше и меньше. Диалектное слово − это глубь веков, этнос. Откуда мы пришли и куда идём? Почему урочища носят такие названия, вятичи мы или чудь белоглазая, новгородцы или ростовцы?
Что такое литература? Ходули, ложно-классические ходули. Русские, американские, китайские, но – ходули. Любой писатель пытается сойти с них, ищет что-то своё, пусть даже аллегорический эпос, ищет художественную полноту, меткость слова, детальность, а вот говор искать не надо, он передаётся с молоком матери. Говор любой отдельной местности, это поразительное богатство языка; наши предки были настоящими художниками, жили в гармонии с природой, в ладу с Богом и духами, они ввели в говор малейшие оттенки многолетних наблюдений, впечатлений, передали нам особенные слова и выражения: владейте! И не забывайте!
Живая непосредственная действительность, быт, личные воспоминания − это не творческая фантазия. Сколько в любом диалекте глубокой, своеобразной, потрясающей поэзии, мощи, трагизма, чарующего великолепия! Старые слова − это памятники былого, это наши кресты на могилах предков.
В деревне всё на виду и все на виду: зло и источник зла, совестливость, стыд, едкая горечь, беззаветная удаль, терпение, богатство, бедность; да что перечислять-обобщать, что смотреть на угасающую свечу, − чтоб знать деревню, надо говорить на её языке, жить её заботами, её радостью и болью, её «уставом», помнить и передавать по наследству.
Жить нищим − трудно, стыдно, и… гадко.
Во времена ныне презираемого брежневского застоя, страна жила надеждами: колхозник паспорт получил! Крышу шифером закрыл!.. А какая удивительная тяга была у народа к чтению! Магнетизм какой-то. Читали в самолётах, в автобусах, читали, загорая на Ялтинском берегу, читали в космосе, везде. В каждую деревню почтальонки носили тяжелые сумки, мужики пахали землю и читали, жали хлеб и читали…
Помню, я подписывался в год рублей так на 130, выписывал «Роман-газету», «Вокруг света», «Техника и вооружение», «Сельский механизатор», «Проблемы мира и социализма»; да разве все издания вспомнишь? Нынче подари соседу книгу, спроси недели через две, прочитал ли? Да, скажет виновато, не всю. Он, эту книгу, вряд ли прочитает от корки до корки, его ждёт «ящик», ждёт 600 программ, заболит палец переключать. Чтобы, сидя у «ящика», валенки починит, − да ты что, и ниток нет, и шило сломалось, и вообще, — вылезет нога из валенка — выброшу рваный, да новый куплю. Однажды я оставил автограф хорошей женщине:
Своими книгами торгую,
А мимо прёт народ.
Такое чувство − я ворую
Или прошу на водку в долг.
Чем виноват? Скажи, не знаю,
О чем болит моя душа.
И в фас, и в профиль проклинаю
Слепую радость торгаша.
Когда-то Хемингуэй за повесть-притчу «Старик и море» безбедно жил много лет, а нам, сочинителям из глубинки (надо признаться, что мы очень маленького роста, против Хемингуэя) не до жиру, быть бы живу. Нам не надо гонорар, нам бы книжечку издать… маленькую, тонюсенькую. Самолюбие не портянка, на ногу не навернешь. Не покидает маленького писателя сознание того, что, в сущности, в его голову природа положила столько извилин, сколько у всех нормальных людей, − зачем обществу думать, будто все писатели и поэты «нетовос»?..
В душе писателя много сил, ему не отказано в божьих дарах, в его сердце волнуется кровь, и под маской некой беспечности скрыта любовь к своей Родине, к своей деревне. Каждый писатель верит, что источники зла таятся не внутри, а во внешних обстоятельствах. Порой я сочиняю с позиции мрачного, трагического пафоса, а что делать? − уж так светла наша жизнь, что надо нашпиговать вещь идеальными, доблестными, положительными типами, дать героям шиллеровское ускорение? В двадцать лет можно не замечать тихих и скромных тружеников русской мысли; кругом сады, кругом весна, солнце, любовь, герои так и просятся на подвиг; в семьдесят − мимо идут шеренги добродушных, любвеобильных богатырей, на острие пера запёкся страстный лиризм, воспоминания, некий пессимизм, страдания…
С годами лиризм «набирается ума», пластичности, игривости, исчезает «я», произведение принимает образность, заветные думы и чувства героя выше писателя. Будто бы у писателя (чаще у поэта) на одном плече сидит ангел, на другом бес, тот и другой шепчут на уши − петь или отпевать?
Надо «петь»! «Отпевать», правда, тоже надо вовремя. Но, повторюсь, в промыслы Божьи соваться ни к чему. Девяносто один год суждено прожить − проживём, и сто один проживём, была бы жажда к жизни.
Почему, спрашивают те, кому я желаю прожить минимум 91? А потому, что до 91 человек с умом собирается. Вот я собрался, и сочинил тебе письмо. Старался, сам видишь. Вроде, никого не обидел, не наступил «на любимый на мозоль?» А что «забрёл издали широким прокосом» − голова русского человека устроена неким клином: старое никуда не годится, новое − несостоятельно; бредёт наш человек, бредёт, куда-то к есенинскому забору… опять к забору.
… Друг мой, великий русский мыслитель В.В. Розанов, говорил: « Книги читаются не для удовольствия, не для информации, а для изменения души».
Хорошее письмо состоит из чистых сотов словесного мёда. Отцы церкви учили вести постоянную и неустанную духовную брань между сладким, похотливым и чистым, учили обуздывать гордыню, отвергать искушение. Эх, надо бы!…
Урчат машины. Пойду смотреть, как нынче копают колодцы.
Велосипед
Здесь жил отшельник с непреклонным характером и звали его Лука. Любил черную, как дёготь, заварку из разных трав с мёдом. Всю свою жизненную силу он сосредоточил на посте и молитве; и была мысль, и была сосредоточенность, и была вера, и жил человек, испытывая одновременно и сладкую грусть, и бодрость воодушевления. Да, прежде сильна была наша земля гордыми, скорбящими и сильными людьми. Кормился лесной податью, держал три колоды пчел. Одаривал божьих людей туеском мёда, и слыл мёд отшельника, как заговорённый от 100 скорбей. Зимним путем 1930 года на лыжах, к нему пришли двое военных.
− Отец, собирайся, нам приказано доставить тебя в суд.
− Каким же грехом я ожесточил людские сердца?
−Твоим мёдом отравился уездный секретарь партии.
− Надо же?.. Кулик, ребятушки, на месте соколином, никогда не будет птичьим господином. Слышал я, что ваш секретарь ни пряха, ни ткаха и язык, как плаха. Какую же нищую душу он ограбил на этот раз?
−Язык мой − враг мой. Береги язык, отец. Он видел живого Ленина.
Охал отшельник, в дальнюю дорогу собираясь, клал в холщовую суму образа Николая Угодника и Зосимы Соловецкого, с полатей доставал посох. Военные отдыхали. Жгли табак, один угрюмо смотрел с угла, другой поддакивал с краю. Путь был трудный. Удивлялись: ради чего надо жить одному в диком лесу, мерзнуть, голодать, слушать волчий вой, уметь тосковать в одиночестве? Хоромы у отшельника «барские»: нары в углу под овчинным тулупом, табурет да стол, кадка с водой, горшок на устье печи. Хватились, нет отшельника. Туда − сюда, как сквозь землю провалился. Решили: скажем, что мертвого нашли в скиту, кто пойдёт проверять?
Так гласит легенда. То, что первыми поселенцами здесь были высланные целыми семьями раскулаченные украинцы − явь. И то, что власти находили среди высланных много врагов, шпионов, вредителей, красиво прописано в газете «Правда» от 28 ноября 1938 года. Статья называлась «Дело чести работников лесозаготовок».
….
Из книги приказов директора Комреньгского лесопункта П.П. Жердякова за январь месяц 1957 года.
Приказ № 9 от 17 января.
«Командировать завхоза Антонова К. Ф. (он же помначсплава) в город Калинин для вербовки рабочей силы. Указать тов. Антонову, что набирать надо разборчиво, желательно людей семейных и мастеровых, и как можно меньше бывших заключенных. Наличие паспортов не обязательно…».
Выписка из приказа № 10 от 17 января.
«…на основании докладной записки мастера леса т. Поповой С.И от 6 января рабочая п. кадра Баженова Анна Ивановна самовольно, якобы проведать больную мать, ушла домой в д. Давыдовку и тем самым совершила прогул, нарушив указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года. Приказываю: направить дело в суд. Директор л.пункта Жердяков.
Из книги приказов начальника Лукинского лесоучастка И.Д.Черноусова.
Приказ № 33 от 2 марта:
«За выполнение взятых на себя социалистических обязательств первого квартала лесозаготовок и за мобилизацию себя среди окружающей массы лесорубов и возчиков, приказываю: провести выдачу мануфактуры за наличный расчёт: Антоновой М. П. − три метра….Премировать деньгами лучших лесорубов и возчиков стахановцев: Антонову М.П. − 100 рублей….»
Приказ № 39 от 23 марта:
«По прогнозам апрель с первых чисел месяца ожидается с исключительно высоким паводком и бурным ледоходом. Это создаёт угрозу разносу древесины, разносу бонов и запаней…. Остающиеся, ещё не сплоченные лесоматериалы, скатать на более возвышенные места, на короткие подставки «под коромысло», но ни в коем случае не в русло реки, где их оборвёт ледоходом….Учесть трагедию прошлого сплава, ни в коем случае не допускать показного геройства….Руководство по пропуску моля и зачистке хвоста от Ершовых складок до самых Ширбуйских складок возлагаю на помначсплава Антонова К. Ф. Водку выдавать исключительно тем, кто по каким − то причинам упал в воду… ».
Антонов К. Ф. − Ксанфий Федорович и Антонова М. П. − Мария Павловна, родители Оли Антоновой. Родители состоят в штате постоянного кадра.
Оле пятнадцать лет. Ей, как и всем девчонкам этой поры, очень хочется быть хорошей. И счастливой. И красивой. Честно говоря, она не чувствует себя совершенной натурой. Она миловидная девушка, подвижная, губы у неё нежные, пухлые и немного вздернутые. Улыбается застенчиво, старается не смотреть в глаза встречным и собеседникам. Конечно, Оле повезло, она не знала военного лихолетья, уровень жизни год от году становится лучше, в их посёлке строят новую школу, ведется строительство дороги до райцентра, на пекарню и в баню воду женщины уже не носят на коромысле, воду качает пожарная помпа. Жаль, однако, что баня в поселке общая, мужики и взрослые парни моются по субботам, женщины, ребятишки, девчонки по пятницам. Воскресенье − стирка. Женщины со всего поселка кипятят своё бельё в больших котлах с мылом, канцелярским клеем и таблетками «Пурген», потом трут на стиральных досках и полощут в реке. Оля очень впечатлительная натура. Реагирует на разные события не так, как ей хотелось бы. Сама себя казнит, что иногда поступает глупо, что со стороны это смешно; лёжа в постели, перед тем как заснуть, осуждает себя. Девчонок, её ровесниц, всего пятеро. Сбиваются в бане в общую стайку, плещутся в уголке, стыдливо закрываются тазиками от хихикающих парней. Мать говорит: «Перестань стыдиться. Наоборот держи себя раскованно, а парни пускай слюни пускают. Ты что, урод какой? Всё при тебе. Но выпучиваться нельзя, доченька. Красота твоей поры одним глаза обжигает, других в омут греха ввергает. После войны нагонят из колхозов девчонок сирот, они как воробушки беззащитные, всего боятся, всего стыдятся, нет бы нахалу по морде залопатить, так плачут в три струи. А парни − бывшие заключенные, так что творилось!…Насилуют, за волосы таскают, куда пойдёшь жаловаться? Да и не всякая девчонка решиться открыться, будет терпеть до конца издевательства. Теперь другие времена настают, кончается эта дикость». Матери хорошо советовать, мать много всего повидала, а Оля держится кротко, застенчиво; когда поступала плохо, чувствовала себя противной, безвольной, на людей смотрела боязливо. Ещё больше усугубляла свои душевные муки мрачными размышлениями о том, что живёт она у чёрта на куличках, что со временем придётся выйти замуж за какого − нибудь пьяницу, нарожать детей, в 6 часов утра хоть стужа на дворе, хоть дождь, иди запрягать лошадь и езжай в лес. Пьяниц дерзких, наглых вербованных, она повидала много, драки, слезы детишек − явление частое. Кто − то привык, смирился со своей сложившейся судьбой, но привыкнуть пятнадцатилетней девчонке?… Женщины в поселке говорили матери: «У тебя девка растёт, что коза пугливая». «Пугаться не надо, ухо востро держать надо. Забыли, как весной 49-го две девки с Давыдовки нарочно утопились?»− отвечает мать. «Твоя правда, Маша. Кругом мужики да парни, по нужде приспичило сходить в лесу, хоть на ёлку полезай», − говорит Алевтина Листопад.
Брат Толик сломал ключицу, − упал с турника Игната Листопада, месяц сидит дома. Оля перетаскала ему из школьной библиотечки все книги, вызвалась поехать на склады ОРСа за продуктами для магазина, с условием заскочить в райцентровскую библиотеку. Выехала в полночь. Отец наказывал: «Никаких волков не бойся. Около полуночи поедет домой вторая смена от Шербуйских складок, кричи, песни пой». Она везёт на старенькой Шпрее, трофейная кобыла, которую уже вывели из собственного обоза, продукты в магазин. ОРС снабжал рабочих хорошо, всё необходимое было. Везёт пряники, водку, рулон материи, десять плиток шоколаду и разобранный велосипед. Плитки с шоколадом поверх пряников положила, глаз от них оторвать не может. «Вкуснятина, должно быть… Хоть бы раз лизнуть… А вот возьму и разломаю!» Нет, не разломает Оля шоколадку: нельзя. Пока Оля работает учеником бухгалтера, что с ней дальше будет, не знает. Отец хочет отправить в торговый техникум, а мать посылает учиться на учителя. Отец говорит: «Семёныч − бухгалтер лесоучастка получает 360 рублей, а перейди он в леспромхоз − 500, а то и 600 дадут». Мать своё поёт: «Вон в газете пишут, до войны в школах района 100 женщин учителей было, теперь 170. Красная дорога учителям! Нам с отцом по шестнадцать не было, затолкали под ёлку: родине лес нужен. Время − то какое хорошее пошло, страна в гору идёт, народ зажил лучше, веселее, да тебе ли не учиться, доченька?» Бухгалтер лесоучастка − однорукий инвалид войны Листопад Павел Семёнович, дядька очень строгий. Сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, немного усталым и грустным, он требователен ко всем, к самому себе в первую голову. Сказывают на поселке, что в бою наш трактор вывозил подбитую немецкую пушку. Семёныч шёл рядом с пушкой, стрелял из винтовки. Откуда − то взялся немецкий солдат, схватил Семеныча за горло, и оба упали под колесо орудия. Немцу колесо раздавило грудь, а Семеныч отделался потерей правой руки. Пишет теперь он левой рукой, как ворона бродит. Рука у Семёныча тяжелая, с утолщенными суставами на пальцах. Пишет, бывает, мучается, отодвинет бумаги, размечтается:
− Есть такие машины счётные в Америке, задачку задал, ручку крутанул и на тебе: как в аптеке. Вот бы дожить… То считаешь, считаешь, в глазах искры летают, сколько Яблоня кубометров вывезла, да сколько на Урхо моя Алевтине стрелевала…
Укатанная санная дорога шла лесом. Черной ниткой она петляла, изгибаясь, от мостика к мостику, от ложка к ложку. Холодный дождь со снегом сек голый лес, сек и Олю. Ноги лошади разъезжались, провалились; Оля покрикивала − страшно. В ложках поверх льда уже бежала вода. Оля боялась, что не успеет переправиться через реку. Проезжая Ванину бережину вспомнила, как прошлым летом Витька с Колькой здесь загнали на ель медвежонка, Витька с вилами стоял под елью и кричал до посинения, отпугивая медведицу, пока Колька бегал в поселок за ружьём. Медвежонка убили, притащили в поселок, два дня мужики пировали, и сенокос по боку. Но сено Ваня Егоза не выставил: медведица не отходила от пожни, ревела, коряги швыряла. У овдовевшего Вани Егозы семеро детей, плюс взял замуж вторично беременную Валентину. Ваня Егоза − лучший кирпичник леспромхоза. Буквально на днях Иван Егоза приказом директора леспромхоза Жердякова отбыл на курсы мастеров леса в город Великий Устюг. Валентине бывший зэк Ванька Карасик платит алименты 5 рублей в месяц. Живут очень трудно, но всегда с улыбкой и в хорошем настроении. «Наверно медведи выползли из берлог. Сейчас ходят по лесу голодные… И та медведица ходит… Дурачье парни: зачем медвежонка убивать?» − размышляла она.
− Но, но, Шпрея! Но, милая!
Быть задушенной зверем в такую погоду неприятно. Да, наверно, нет на свете погоды, при которой умирать было бы приятно.
Лошадь остановилась. Напрасно Оля понукала её, била вожжами. Лошадь тащила повозку, пока могла, теперь ей требовался хоть маленький, но отдых.
В воздухе пахло сыростью, слышались шорохи, тяжелое, усталое дыхание лошади. Набрякшее влагой небо висело над головой. Оно было похожим на сырую овчину. В лесу весна только начиналась, а в поле… «Помоги, господи, добраться до полей! Там уж и поселок − рукой подать. Нет − нет, и через поле дорога крепкая, не могла же она раскиснуть за день! Утром аж звенела по насту, не должна». Застыдилась, улыбаясь сама себе: она же комсомолка, как можно?!
Отдохнула лошадь, сама пошла, и понукать не надо.
Оля шла какое − то время за дровнями, отогрелась, села на воз. Гадает, кому же тетя Галина Изосимовна велосипед продаст? А вдруг какому нибудь стахановцу велит директор продать? Отец сказывает, Игнат Листопад в дни стахановского месячника «Вакконом» до двух норм за смену валил. Отец Оли − совестливый человек. При нём даже мужики редко матерятся. Для него Семёныч − герой. Жалеет, что не попал на фронт, родился несколько ущербным: одна нога короче другой на пять сантиметров. Ходит неровно, как журавль подскакивает с кочки на кочку.
Добралась до полей. Дорога, что кисель. Шпрея упирается изо всех сил. Полозья дровней сипят. Местами голая земля, грязь. Ноги погружались в рыхлый, пенистый снег. На ногах Оли валенки давно промокли, обросли грязью; жалко валенок, мать ими премировали прошлый год за ударный труд на вывозке древесины.
К реке прикачала, на реке лёд. Опять помянула бога. Во все стороны посмотрела, нигде никого. Видит, на бугорке сквозь бурую попревшую прошлогоднюю траву, проклюнулась какая-то травка, слабенькая, чахлая, толщиной в шерстяную нитку. Села перед травкой на корточки, с умилением уставилась на стебельки. Подула, − вроде травинки обрадовались, потянулись вверх; исподволь, вкрадчиво подула позёмка, зашуршали, завихрились снежные полосы; вдруг по ледяной поверхности, как по разбитому стеклу, поползли трещины.
Тут от реки показались бегущие фигурки, чего − то кричат, машут руками. Передний Игнат Листопад, его Оля признала по солдатской гимнастерке и стриженой голове. Ещё подождала: чего бегут, чего кричат?
−Назад! Назад!
Куда «назад», лошадь уже стоит передними копытами на льду.
−Давай! Давай вперёд! − кричат, напирая, другие мужики.
Подхлестнула Оля Шпрею, та качнула воз с боку на бок, чуть не растянулась на льду, выправилась, и ходко пошла по накатанной дороге.
−Назад! Назад! − догоняет повозку Игнат.
За узду хватает, пробует развернуть Шпрею, та упрямится, и вынужден Игнат бежать рядом, держась за оглоблю.
Тут как из пушек начали басисто палить вверх по течению, грохот покатился над рекой. И под ногами вздрогнул лёд.
−Давай, давай!
Большую льдину вместе с повозкой и людьми лениво понесла река.
Прыгнули на льдину два мужика, к повозке и Оле подбежали.
−Леший тебя дернул «назад!» кричать! − кричит один, в пропитанной соляркой фуфайке, на Игната. − Девка − та бы одна скорее сообразила!
−Во, сейчас сообразим! Смотри куда несёт!…С разгону надо брать, с разгону! Лошадь за берег зацепится, а так!…
Схватил Игнат вожжи, стал хлестать ими Шпрею, подгоняя ближе к берегу. И надо же такому случится, что льдину, где течение прижимается к самому берегу, развернуло и всей массой вытолкнуло метра на четыре по берегу. Только согнали лошадь, сами спрыгнули, льдину кто − то невидимый снова развернул и она медленно потащилась обратно на быстрину.
−Бывает же такое, − удивленно говорит Игнат. − Как на такси, с доставкой на дом. Да − а, а говорят бога нет. Это, мужики, нам святой Лука пособляет.
Вытирают мужики перепотевшие лица шапками, не верят случившемуся.
−Вот − те нате… Это надо же? Сами − то быть может спаслись бы, но лошадь, товар… Под счастливой звездой ты, девка, родилась. Что там везёшь − то?
−Книги. Велосипед. Материю.
−А чего это у тебя в ящиках, а? Чего там соломой обложено, уж не водочка ли? − прищуривает глаз Игнат.
−Галина Изосимовна…
−Не робей, мы с Галиной Изосимовной столкуемся, − скалит зубы Игнат. − Пару пузырей за продолжение жизни надо освоить! Эй! − кричит, сотрясая бутылкой, быстро идущим по противоположному берегу мужикам. − Не завидно?! Давай к нам, кто смелый!
−Не сметь! − кричит коренастый, конопатый мужик. − Не сметь! Или приказ забыли?
Выбрались на влажную хлябь мхов, Игнат с достойной важностью, обил сургуч с одной бутылки, протянул конопатому.
−За второй круг, − говорит. − Другую, считай, жизнь почали. А я на третий пошёл. Аха −хаа!
−Обязательно надо пить? − говорит конопатый, испытывая ощущение некой брезгливости. Подержал бутылку в руках и обратно подал, с веселой злостью добавил. − Пей, лешак тебя побери − то.
Ветер набирал силу. Весь горизонт затянули серые, дряблые, источающие холод тучи. Если бы река могла кричать, она бы кричала от захватывающей ярости, нетерпения, воли − таким сиплым и могущественным был голос реки.
Брат Толик встречал её у барака. Увидел, бредущую с книгами, закричал:
−Ура!
Оля стащила с ног размокшие валенки, с сожалением говорит:
−Мамины… Ссядутся теперь, мама заругает…
−Не ссядутся. Папка их на колодки посадит, не тужи. Папка у нас головной человек!
Складывает Оля мокрую одежду в кучу, взахлёб говорит брату, как было страшно через реку переезжать. Как набежали мужики, как лёд трещал.
Толик здоровой рукой обнял сестру, сказал задушевно и нежно:
−Отчаянная ты, Олька.
−В магазин шоколаду привезла, вот такие плитки…ох, и вкуснятина!
−Ела уже?
−Не −е, не ела, плитки же заклеены.
Мать вернулась в 9 часов вечера. Усталая, промокшая, еле дошла до стола. Оля раздела её, стащила с ног такие же размокшие, какие были на ней, валенки, собрала поесть.
−Отец не пришёл? − спросила Олю.
Керосина не было. Горели в светце лучины, огарыши с шипеньем падали в корытце с водой. Отец как обычно приходил часов в 10 вечера.
Стала Оля рассказывать матери, как она съездила в райцентр, мать слушала − слушала и захрапела. Оля поняла, что мать спит. Стащила мать на кровать.
Пришел отец. Разделся, ноги на табурет положил, массирует икры.
−Болят? − участливо спрашивает Оля.
−Намял, должно быть. Испугалась, когда льдина понесла вас с мужиками?
−Не знаю. Игнат кричит «Назад!», мужики кричат «Давай!», под ногами лёд трещит…А как в верхотине забухало, у меня руки − ноги задрожали.
−Удалой дьявол, этот Игнаха. Что поделаешь, ребята, кому что на роду написано. Мне вот не повезло…
−Папка, опять ты сам на себя клепаешь!
−Игнат пришёл из армии, его за сеном послали на ту сторону. Дело на 8 ваше марта было. Мороз, иней над рекой ажурной вышивкой висит. Лошадь провалилась, воз на воде качается, а Игнат не тюха − матюха, давай лошадь за гужи тащить. Лошадь массой своей лёд ломает, метр за метром и ведь вытащил! Выпряг, гонял, пока пар не повалил. Так бы ша, застудил Шварца. Я бы так не смог… Завтра керосин обещались привезти, теперь не скоро привезут. А керосин надо! Что бы тебе бочку керосину вместо водки нагрузить… Хотя бочку бы Шпрее не утащить по такой дороге. Что и деется на белом свете: опять зима. И ветер шальной. Хоть бы бон у Ершова ручья не сорвало…
−А сорвёт? − спрашивает Толик.
Отец побил себя по шее ладонью.
−Всё понял?
−Намылят? − спрашивает Толик.
−Отрубят.
−Папка, а правда, что святой Лука в беде людям помогает? − спрашивает Оля.
−Не по печке заслонка: сказки. Тебе вперёд жить, ты комсомолка, забудь всех святых.
−А кто прошлым летом родник ниже пекарни расколупал и крестик из прутиков поставил? Вот и не знаешь. А я знаю: святой Лука приходил в ночь на Ивана Купалу, − говорит Толик.
У немногих в поселке есть радио на батареях. У Антоновых есть. Ксанфий Федорович не дозволяет Оле и Толе включать его с тех пор, как Толя расковырял одну батарею, желая вызнать, откуда идёт электрический ток. Ксанфий Федорович перед сном всегда слушает последние известия, потом говорит: «Ну, мужики, я устал и вы устали. Давайте − ко спать ложитесь благословясь».
Велосипед директор Черноусов распорядился продать Игнату Листопаду.
−Иван Дмитрич, да на кой ему кляп? − пыталась оспорить решение директора продавец Галина Изосимовна. − Изломает, истопчет за неделю этот бугай, отдал бы Ване Егозе, ребят такая куча, вот бы радости было…
−Нельзя, Изосимовна, нельзя. Уже завтра начинаем сплав, опять на Игната вся надежда. Нужна моральная агитация, понимаешь?
−Понимать − то я понимаю, а всё-таки…
−Игнату!
Принёс Игнат велосипед из магазина, едва ли не вся ребятня с поселка собралась на смотрины, смотрят завистливыми глазами, как Игнат колеса насосом подкачивает, как сидение регулирует. Выкарабкалась из комнаты тяжело дышащая бабка Листопадиха, под вешний ветер лицо выставила. В добротной шубе, в валенках с галошами, на голове шаль с кистями. На поселке знают, что когда Листопадов раскулачивали, она в этой шали самовар прятала. Игнат из себя широкоплечий, сильный. Как суровый облик северной русской избы смягчают резные наличники по окнам, так широкая, открытая улыбка парня смягчает сердитое от природы лицо. На турнике «солнце» крутит. Одна щека глубоко вдавлена фиолетовым шрамом. На спор перебегал по плывущим бревнам реку, поскользнулся, ушёл с головой под бревна. Чудом выплыл. Ещё он смелый. Перепьют вербованные, за ножи схватятся, все бегут скорее к Игнату: растащи! Он нравится женщинам. В праздники пляшет так, что подошвы сапог отлетают. Девушки возле него до поту с круга не сходят, наперебой дробят да озорные частушки поют. Коронную Игната частушку «Я ворую лошадей, ты воруешь сани…» поют младенцы в зыбках.
−Кто у нас готов повторить подвиг Александра Матросова, а? − смеётся Игнат.
От крыльца кричит возмущенная бабка:
−Дай хоть дороге просохнуть! Куда ты в эдакую грязь, есть у тебя сколько ума в голове − то или нет?
−Отсталый ты человек, бабуля. Как говорил один писатель, от ума только горе, − самоуверенно отвечает Игнат. − Ну, орда, так кто самый смелый?
Страшно. Только на картинках велосипед ребятишки видали, а сядь, да упади, так засмеют, подклинивать станут: вытюкнулся?
Вышел вперёд всех парнишка Вани Егозы, десятилетний белокурый Венчик, дозволь, говорит, дядя Игнат, мне попробовать. Маленький, босой, озябший, рубашка на нём рваная, штанины закатаны.
−Не мерзнешь? − снисходительно спрашивает Игнат.
−Мерзну, да одеть больше нечего, − доверительно отвечает Венчик.
−Не тужи, отец из города костюм привезёт.
−Тужи, не тужи, как мамка новая говорит, да мило взглядывай, − рассудительно говорит Венчик.
Посадил Игнат Венчика на велосипед, провёл до пекарни, обратно к бараку.
Ребята шли сзади.
−А мне можно? − спрашивает Оля Антонова.
Игнат с загадочным выражением, молча, гладит ладонью руль велосипеда, потом небрежно отвечает:
−Только если пойдёшь за меня замуж.
Оля прячется в стайку ребятишек.
−Ну, вот, а я надежды питал… Эх, пацаны! Надоело мне холостому жить. Мать заела, бабка пилит, отец бранит. Как вы думаете, пойдёт за меня замуж ваша учительница?
Ребятишки переглядываются, топчутся: Игнат добрый парень, скалозуб… а если Екатерина Ивановна рассердится, даст от ворот поворот?
−Давно бы пора остепениться! − кричит от крыльца бабка. − У ровесников − то детки скоро за парты сядут!
−Решено: сплав кончаем, пиво закупаем и сватом идём. Но, пацаны, услуга за услугу: вы всячески должны хвалить меня вашей Екатерине Ивановне. Всячески! Помните: вежливость приятна, обольстительна и доставляет счастье окружающим. Дарю велосипед поселку! Старшим назначаю Олю Антонову. Если будете жадничать, драться, то велосипед забираю обратно! Все слышали?.. А заместителем Оли по политчасти назначаю Венчика.
−Отдаёшь, что ли? − удивлённо спрашивает от крыльца бабка Игната.
−Бог дал, и Бог взял: отдаю, − с холодным достоинством отвечает внук.
−Эх, простота ты простота. Ну да… − машет отрешенно рукой бабка. − Ужо!
Идёт сплав. На реке далеко слышны голоса. По берегам горят костры. Разлившаяся вширь труженица река, медленно несёт на своём горбу тысячи бревен. Вода уносит вдаль чувство зимней заброшенности, одиночества. С тяжелым ровным шорохом плывёт льдина, на льдине куча бревен. В какой − то момент льдина разламывается, бревна встают стоймя и плывут так, голосуя пространству, потом с грохотом опрокидываются через себя, дробя и топя обломки льдины.
Прилетел кулик из заморья, вывел деву − весну из затворья.
Сырость, слякоть.
От реки несёт холодом.
А в поселке у ребят праздник: в очередь катаются на велосипеде. В расчёт не принимается грязь, падения и ушибы, фонтаны грязной жижи, обсусленные кучи снега, главное − вперёд!
Венчик, сын Вани Егозы, сидит в отцовской фуфайке на березовом чурбаке, на ногах у него резиновые сапоги. Катающийся на велосипеде должен отдавать, пока катается, свою обувь ему, Венчику.
Рыбалка
Нет для человека врага страшнее, чем он сам. Это про Кешу Сидорова сказано. Кеша Сидоров иногда бурчит как медведь, слов не разберёшь. Попросишь его перевести сказанное, явственно повторит. Ещё Кеша человек вялый. Вот приехал в отпуск, октябрь на улице, а он лежит и лежит на веранде на старом диване. Думаете, журналы листает, книги читает? Ошибаетесь: ничего не делает, лежит да в потолок смотрит. Мать позовёт к столу, он пробурчит чего-то и продолжает лежать. Работает в Сибири на каком-то добывающем предприятии взрывником. Чего добывают − не говорит. Вялость Кеши не только его внутреннее качество, а качество и внешнее, касающееся всего загадочного предприятия. Должно быть, люди на этом предприятии не столько добывают, сколько думают чего добывать и когда добывать.
Худо, когда душа как роща после пала.
По приезде Кеша испытывает мучительное чувство неопределённой тоски. Он курил, долго бродил ночью за селом по проселочной дороге, намеренно пытаясь устать, − тоска не исчезала. Как-то проснувшись под утро, он почувствовал, что глаза мокры, и понял, что плакал во сне. Ему, подрывнику, было стыдно, он ругал себя, но из этого тоже ничего не вышло.
Родители надеялись, что в этот приезд Кеша всё же сделает предложение Тамаре, − вроде дружат со школы, хотя, может быть, и не дружат вовсе. Скромница эта Тамара, такая незаметная мышка. Не дал ей бог броской женской красоты, зато щедро одарил добротой. Ещё в школе она выдумала свои правила жизни, и слепо им следует до сих пор, только сама жизнь постоянно вносит коррективы. Работает медсестрой в районной больнице, она как затычка в бочке: «Тамара, подмени», «Тамара, войди в положение», «Тамара, ты поедешь на областной конкурс медсестёр от нашей больницы». Мать подталкивает Кешу на решительные шаги, да тот не торопится сползать с дивана.
Кеша привёз взрывчатку. Обмолвился по приезду школьному приятелю ветрогону Мишке Бабахину, мол, не мешало бы добрую ушицу из местной рыбки похлебать. Сказал и завял, а Мишку подмывает «грохануть» − не зря же он носит фамилию Бабахин. Видимо, в ихней родне были мужики боевые! Мишка раз толкнулся к Кеше с рыбалкой, другой заикнулся − ухом не ведёт Кеша.
Мишка к Тамаре. Прямым ходом в сестринскую на правах близкого родственника.
−Всё хорошеешь, хорошеешь, − Мишка без всякой скромности обнимает за талию девушку. − И чего ты такая плотная? У моей Гальки рёбра так и ощупаешь…
−Убрал бы ты, клешни, Мишка. То ведь…
−Ладно, ладно, недотрога ты наша. Кешка приехал, на рыбалку нас с парнями подбивает, а без зазнобушки своей, говорит, шагу не сделаю.
−Так и говорит? − не верит Тамара.
−Во, перекрещусь!
Тамара рассмеялась счастливым смехом.
−Иди ты к черту!
−Да я тебе говорю! − крикнул Мишка, словно испугавшись, что Тамара наведёт справки и узнает: как всегда Мишка врёт. − Столько, говорит, я помёрз в тайге, сколько дум передумал, сколько мук принял − мобильник худо берёт, каждый раз на сосну залезаю кричать, а тут ещё этот ваш приезжий инженер палки в мои колёса вставляет…
−Откуда?! Откуда он про приезжего узнал? А−а, ты натрепал?
−Тамара, царица Тамара! Не бей, не убивай Мишку, Мишка ещё пригодится.
−Ух, Мишка! Глаза твои бесстыжие когда-нибудь выцарапаю! Чего про приезжего натрепал, говори!
−Царица Тамара, самую малость: подбивает клинья один ухарь к нашей Тамарочке, но она… она ни в жизнь! Так и сказал, что веди её в ЗАГС, то уведёт, как пить дать уведёт!
Подействовали басни Машки на Тамару или нет, про то неизвестно, но через день после этого, Кеша идёт к Мишке, сегодня, говорит, на вечеру пойдём рыбачить. А Мишка опять зайцем забежал:
−Тамара твоя просится. Вчера разревелась у меня на плече, как вспомню, говорит, и слезами давится, как с Кешиком по озеру на лодке катались, как целовались и лодку опрокинули… жить не хочется!
−Да ну-у…
−Баранки гну. Надо нашу медсестру звать. Слышь, засыхает девка на корню. Моя лодка −маленький буксир, сам знаешь, все поместимся. Пары пузырей водки хватит?
−Да ты что, опупел? Станет Тамара водку пить! Есть у меня винишко заморское, слабенькое, бутылка как графинчик маленький, Венеция на этикетке намалёвана и эти двое, что гребут на лодке….как их там кличут, вспомнить не могу?
−Да пёс ними! Я водочки прихвачу на всякий пожарный случай.
Мишка забежал к Тамаре. Та час как вернулась домой со смены. Гладит белый халат утюгом и напевает:
Где-то выше − истоки реки,
Где-то ниже − сольются реки.
По ладони одной руки,
Не прочесть судьбу человека.
−Царица Тамара, это опять я, не гони сразу.
−Ты когда стучаться будешь, балабол? Чего тебе?
−Зови, говорит Кеша, от моего имени на рыбалку зазнобу мою. Чего сам не зову − сердит на неё немного. С какого краю подступиться не знаю.
−Ну, Мишка! Ну, паразит!
Свёл-таки Мишка Кешу с Тамарой.
Собрались.
Поплыли.
Выехали на самое рыбное место, мотор заглушили. Минут десять сидели молча. Кеша то смотрел на Тамару, то отводил взгляд, сопел, собирался с мыслями. Ему хотелось обнять девушку, прижать к себе, заговорить сейчас, именно сейчас. Сказать, как он скучал по ней в тайге, по дому, как, не дыша, прислушивался к безмолвью в сопках, пускай и Мишка слушает, − хороший парень Мишка, пустозвон, а мужик − себя для друга не пожалеет. Ещё прочесть стихи, которые посвятил школьной подруге по имени Тамара. Под ногами лежала взрывчатка. Кешу так и подмывало выбросить её за борт. Тамара сидела на носу, глаза её непонятно блестели. Вроде любовалась пейзажем, − набросила осень на берега свой наряд в прорехах, и ветерок с севера сгущает тучи, а глазами как отстреливалась от Кеши; а Мишка весь ушёл в слух: мало ли чего, хоть время и позднее, а вдруг кого леший кинет? Да и жена ещё «напутствовала»: «Чтоб твою лодку разворотил Кешкин тротил!». Жена у Мишки вроде пророка святого, как скажет, так и будет. Даже боязно… И с инспектором рыбнадзора пересекаться не желательно…
−С богом, − сказал Мишка.
Кеша буркнул что-то себе под нос, опустил «снасть» на дно, поджёг запальный шнур.
Рывок, ещё рывок, и ещё пять рывков с одного − мотор не заводится.
Первым за борт прыгнул Кеша, прихватив с собой взвизгнувшую Тамару, за ними, туда-сюда покидавшись, хозяин лодки Мишка. Куда и вялость Кешина подевалась. Одной рукой тянет Тамару за воротник к берегу, а другой гребет изо всех сил. Подачи нет, − октябрь не июль, все одеты в теплые тужурки, резиновые сапоги…
Качнулась водная гладь, берега отозвались тяжким выдохом, и давай аукать в ночь.
На другой день Кеша с Тамарой подали заявление в ЗАГС.
Мишкина лодка утонула. И «Венеция» ушла на дно вместе с гондольерами. Плавал Мишка на то рыбное место не один раз, «кошку» трёхлапую кидал − увы, нет зацепа. Слух прошёл по селу, что власти пляж собираются делать, водолаза вызывают озеро обследовать.
− Мотор бы достать… − мечтает Мишка.
− Ушки бы похлебать, − язвит Мишкина жена.
Покорение Сибири Ермаком
Примета: кукушка петь перестала − зерном подавилась, (жито на колос пошло)…
Марфа Пудовна дала знать внукам: на Ильин – день умру, как можете – приезжайте. А то – пожила и хватит, пусть другие столько поживут. Девяносто пятый почала месяц назад. Упрямая старуха Пудиха, как в народе её зовут. Сказала, что на своей печи умрёт, и ведь слово сдержит.
У самого крыльца тихо, как облетающая осенью листва, прошелестел «Лексус» − пожаловал средний внук Фёдор. Из машины выступил, ноги широко расставил, с интересом деревенскую улицу и ближние дома глазами объехал, подтяжками брюк «поиграл» на вытирающей «мозоли». В себя не заглянешь, − тоскует сердце в тайной радости, испытывая сладкий недуг.
Мельком глянул на крышу летней избы, вздохнул: пяток тесин сорвались со стропил, которые тесины переломались, одна ядреная ткнулась торцом в густой крапивник. «Пропадает дом… нет крыши, не будет и дома. Всё некогда…» Отошёл от машины. Когда-то давно в такой день после короткого дождя он с бабкой выгонял коров из лесу. Белые березы роняли алмазные слезы, бабкин голос был звучен и весел, он стрелял кнутом – боялся быка, налетел ветер, лес загудел, между стволами закачались тени…
Рядом с «Лексусом» припарковался «Ягуар»», из машины вылез младший брат Орест. Из одежды на нём одни шорты, на ногах сандалии. На небо глянул – везде простор и чистая лазурь, носом потянул – родина!
Пробежался взглядом по громадине отцовскому дому – как бледный призрак юных лет, лежит на сердце разбитый груз надежд; присмотрелся к взирающему на деревню брату – лет двадцать не виделись, руками всплеснул, возопил от всего помышления:
− Брат мой Федор свет Павлович, тебя ли я вижу в родных пенатах? Суриков. Масло. «Покорение Сибири Ермаком».
Обнялись братья, побили один другого по плечам, прослезились даже.
Двадцать лет не двадцать дней. Много воды утекло. Большой перерыв оказался между прошлым и нынешним временем. Грудь Ореста от горла до шорт заросла курчавой шерстью. Плешь на голове с бабкину шаньгу. Федор забыл, когда был брюнетом, лысоват, брюхом беремен.
− Сколько же ты пудов, Пудёнок? – смеётся, радостью обмирая, Орест.
− Орешка ты Орешка… Как я рад тебя видеть… Да немного, семь с довеском, если весы не врут. А ты все восемь, а? Восемь, бабкин неслух?
− И не знаю, брат… − Орест гладит ладонью свою «мозоль», − может… всё может. Да-а, брат, вот тебе и Пудёнки! В люди вышли Пудёнки! – крикнул, приседая. − Поел нас сосед, царство ему небесное. Рожу искосит, нос свой кривой как к губе придавит, и назло с нажимом выговаривает: «Арест» да «Арест». А «Арест» подкатил к родительскому дому на «Ягуаре»! Наградил меня батюшко имечком, век благодарен… Смотри, дымок показался. Наш старшой по косогору катит, дымит наш Пуд!
− Какую дорогу голландцы положили! Лепота! Умеют сволочи строить! Еду и не верю. А мост? Ты заметил, какую дуру заворотили, а? Выдержит стотонные машины. Вот что значит алмазы, − говорит Федор.
− Перебор, брат, перебор. Я слышал в нашем болоте хранилище для отработанного уранового топлива строить будут. Будто бы не только со своих подлодок, и с Европы всю гадость к нам повезут, − говорит Орест.
− Что тут скажешь, а? Нас с тобой не спросят. Болоту так и так капут.
В краю деревни затарахтел трактор. Орест и Федор вышли встречать, — к бабке правился старший внук на старенькой «сороковке». Василий живёт в другой деревне, ему ещё в детстве оторвала ступню правой ноги роторная косилка «КИР-1,5» Пудом прозван с одной стороны по прадеду, с другой — за тяжелый голос, высокий рост, худобу и прямоту речи. В колхозной кузнице отстучал Василий почти тридцать годиков. По какому месту подручному показал молотком стукнуть, там тот и стучи, а коль рядом попал – беда, кузнец поковку может и под дверь кузницы бросить. Осерчает, бывало, бабка на него: «Пуд ты Пуд, сущий камень! Да в кого ты экой упрямый выродился?» «А в тебя, в кого ещё».
Василий трактор поставил под березой напротив дома.
Из кабины выбрался, припадает на протез, младшие братья к нему как к отцу жмутся.
− И как ты в такой скворечник влезаешь? – удивляется Федор.
− А он вдвое складывается! – гогочет Орест.
− А я влезу или нет? – говорит Федор. – Толкать если…
− Влезешь. У нас ребята на вечерину в Березову слободу поедут, семеро с гармоньей влезают.
− Да-а, в Березову слободу и мы с гармоньей… − стал вспоминать Федор и осекся.
− Братище, а народу много в деревне? – спрашивает Орест.
− Народ, − хмыкнул Василий. – Народ на буеве, в большой деревне прописан, в нашем Ягодине народишко доживает. В четырёх домах.
− А было… это какая деревня была, а? – изумляется, как не веря, Орест. – У Кислицыных в летней избе самовар стоял с двумя кранами, на стене ружье висело. На прикладе выжжено «Иванъ». Мы всё гадали: неужели из дерева? Стволина длинная, железные кольца наведены. Брат, ты пищали не куешь?
− Ты когда в деревне-то был последний раз? – спрашивает Василий.
− Ну, это… а гастролёры шерстят? Домов-то пустых много?
− Ладно, пошли к бабке, − распорядился Василий.
Не едет бабка к Василию жить. А про Федора да Ореста и в мыслях у неё нет. Один где-то на юге, другой ближе к Москве. У бабки в хозяйстве есть петух и три куры, кошка. Петуха держит голосистого, чтоб, говорит, дом пустым не был. Бывает, ночью петух как запоёт – замерзает, что ли, в хлеву, бабка очнётся от дремы: «Да штоб тя!.. Ишь, разорался! Завтра велю Евдохе голову отрубить!» Полежит, подумает, сама себя выругает: «Бесстыдная рожа! Да как такое подумать могла?!» За бабкой присматривает Евдокия, такая же одинокая старуха, ещё живая на ногу. Соседи. Давным-то давно не всегда приветливы бывали друг к дружке. Много раз прошлись памятью старухи по прожитым годам, вспомнят да посмеются, посмеются да поплачут. Хмельник растёт по меже, как стал весной подниматься, каждая старается на вечеру будто ненароком по хмельнику пройтись, с чужой стороны тычинки на свою сторону направить. Соседская кура завела в чужой крапиве гнездо, а Федька да Орест разведали, высмотрели и стащили яйца. Хорошая морковь в своём огороде нарастет, а у соседей лучше и сочнее − ночью набег «пуд да пуденки» совершат, была морковь да сплыла. Родители у ребят заживо сгорели на риге – спасали колхозное зерно. Вроде и бранить – сироты, безотцовщина, а не бранить – много ли проку от одних бабкиных наставлений?
Пустует скамья на крыльце.
Взялся за дверное кольцо Федор, подержался и отпустился.
− Открывай, не выбежит навстречу бабка, − сказал Василий.
Он шёл задним, шаркая протезом, давая дорогу младшим братья.
Лежит бабка на широкой лежанке возле печи под теплым одеялом. В избе душно и жарко. Тяжелый запах малоподвижного тела. Из-под лежанки видна шайка, прикрытая газетой. Помнят Федька и Орешка, как из этой шайки их бабка в бане мыла. С потолка свисают клейкие ленточки, мух на них черным-черно. На столе полотенцем прикрыты чашки – ложки, на стене фотокарточки в рамках. Тикают часы-ходики, как и тридцать лет назад бегают у кота глазки туда-сюда, туда-сюда.
На божнице нет икон, одни засохшие жалкие цветочки: голубенькие колокольчики и поникшие ромашки.
В мыслях Федор и Орест думали застать бабку той, что осталась в памяти двадцать лет назад, а увидели живые мощи, и не по себе стало.
Некому Марфу Пудовну обиходить. Пропитанные мочой одеяла Евдокия вытащит на улицу, на изгородь повесит, сухие на лежанку постелит. Бранит Марфу Пудовну:
−Какого ты лешева к Ваське не едешь жить? Ведь зовёт, кабы не звал… Анна у него баба золотая…
−На своей печи умирать стану. Отвяжись.
−А как я раньше умру, а?
−Окстись, умрёт она раньше. Пошто это ты раньше умрёшь? Ты меня схорони, ишь, какая…
Встали все трое возле бабки. Впечатления молодости не только живы, но ещё так ярки и необыкновенны, так и манят и волнуют, громко стучит сердце, − тревожное и внутренне не всё осознанное, острая жалость лежит перед ними, взрослыми мужиками. Все трое опять маленькие, слабые, одна защита у них – бабка, хочется скорее вырасти, самим собой казаться большими и самостоятельными.
Василий покрякивает в кулак, привлекая внимание бабки к себе, говорит, подбирая слова:
−Вот, баушка, Орешка наш да Федька наш, как и просила.
Иссохшая старуха лежала немая и неподвижная. Если бы не открытые глаза, непонимающе оглядывающие мужчин, – уснула вечным сном.
−Баушка, Орешка наш да Федька наш к тебе пожаловали, − медленно повторил Василий, поочередно показывая пальцем на братьев.
Голова бабки немного шевельнулась, откуда-то из провалившегося рта послышался вопрос:
−Пензию принесли?
−Принесли, − кивнул головой Василий. – Орешка наш да Федька.
−А-аа… Ты пошли Орешке денег в тюрьму. Худо арестанты живут.
−Пошлю. Вот он, − взял Ореста за рукав, пододвинул к бабке. – Орешка наш.
−Выпустили? – удивилась бабка.
−Выпустили. Отпуск дали за хорошее поведение.
−Бабка, Федька я, Пудёнок, − наклонился над бабкой Федор. – Помнишь, неслуха такого? Помнишь, как вожжами меня полосовала?
−А как же, как же! Пудёнки – наши робята. Сиротами поднимались. У них родители в риге сгорели, вот, товарищ дорогой… Васька, ты мне место рядом с Пашей моим застолби. Евдоха бает, нонче загодя место на буеве отбивают, больно, бает, мор людей косит, штоб не заняли.
−Ладно. Ты хотела с Орешкой да Федькой увидеться, так вот они. Подарки тебе навезли, весь стол кульками завалили.
−Страхи господни…Што ты, Васька, меня пугаешь? − у бабки затряслась нижняя губа.
−Я не пугаю. Ты просила им депеши послать, я послал, они… вот они, потрогай Орешку за руку.
Бабка вытащила из-под одеяла вздрагивающую руку, осторожно дотронулась до протянутой руки Ореста и отдернула.
−Ну, признала? – спросил Василий.
−Может он, может… обличьем как бы счетовод Ондрий Настасьин … Тебя, товарищ дорогой, остричь – налог по шерсти вытянем.
Все рассмеялись от бабкиной шутки.
−Всё такая же, − глуховато, с облегчением произнес Орест, повертываясь к Федору с посветлевшим лицом.
−Ты, Васька, мужикам-то денег дай. Прогон ноне дорогой. У меня под подушкой, − сказала бабка.
Попытался Орест доходчиво объяснить, что с тюрьмой он давно распрощался, когда прошлый раз приезжал из Астрахани, уже жил на вольных хлебах, а бабка вдруг хватилась большой чугунной сковороды; − её Пудёнки страсть любили жареную картошку с луком.
Василий смотрел на бабку спокойно, а Федора уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная: умом тронулась бабка, чего сто раз ей повторять, если не понимает?
Вышли на улицу, на свежий воздух.
−Со святыми упокой, − тяжело вздохнув, сказал Орест.
−До Ильина дня, пожалуй, не доживёт, − сказал Федор.
−Доживёт, – сказал Василий.
Стояли на улице Орест и Федор, оба охваченные странным, тупым равнодушием. По приезде было желание у Федора проехать на своей дорогой иномарке по деревне, проехать с вызовом, тихо и медленно, чтоб все видели, до каких высот вырост Пудёнок, а теперь смотрит на заросшую дурной травой улицу, дома со съехавшими крышами… не перед кем козырять-то! Укоризной колют окна с выбитыми стеклами, начавший съезжать с соседской крыши конёк как собрался в дорогу, да передумал, бабкин петух закукарекал торжествующе на том месте, где когда-то стоял хлев…
−Иконы давно умыкнули? − спросил Орест Василия.
−Есть кому нынче мыкать. Дармоедов развелось, алкашей, всяких спартанцев… Каждое лето до снегу деревню не раз пройдут воры. Запирай, не запирай, всё с мясом выворотят.
−А чего запирать, себе дороже.
−Так идите и берите?.. Мне по чужому дому пройти, что покойника обыскать. А ты чего про иконы-то намекаешь? Штобы я из родительского дому да при живой бабке?
−Здравствуйте. Не успели встретиться уже содом. Нехорошо, брат Пуд и брат Пудёнок, − вмешался Федор. – Есть у меня распрямляющий извилины коньячок, пропустим? На родной земле, под родным небом… – заговорил Федор, подталкивая Ореста к Василию с снисходительным почтением, стараясь выказать своё понимание происходящего.
Перегнал «Лексус» Федор тоже под березу.
−Какие мы скворечники на эту березу весили! Помнишь, Вася? Бабкин сундук распотрошили, накалим кочергу в огне и кочергой дырки прожигали. Надо бы хоть один скворечник повесить…
Столовались возле «Лексуса». Двери машины распахнуты. Сидели в примятой траве. Золотые снопы света валились через листву вековой березы.
Но было что-то жуткое в красоте безлюдной деревни, со всей неразгаданной страстной тоской, ото всюду как собиралась пышная, расточительная, потревоженная зря жизнь. Орест и Федор сидели напротив друг друга. Первый тост поднимали за встречу. Федор выставил батарею французского коньяка. Федор сделал несколько меланхоличное и в то же время экзотическое лицо, чувствуя на себе направленные взгляды братьев, − как он сам-то будет пить заморскую гадость? Выпили, вроде, прокатило хорошо, и пожгло где надо…
Откинулся всем корпусом назад Федор, смотрел на Ореста и Василия, и не мог наглядеться.
−Вот и встретились… Да-а, − говорил Федор, стараясь придать своему голосу особенно простодушный братский тон, − редко, братья, встречаемся, редко. Покорение Сибири Ермаком…
Соседка Евдокия пришла к мужикам. Долго она пережидала, когда разъедутся внуки Марфы Пудовны. Не вытерпела. С одной стороны не хотелось встречаться с Орестом и Федором, с другой – интересно, какие стали из себя Орешка да Федька. Будет потом о чём с Марфой поговорить. Правда, сначала Марфу надо в толк ввести, расположить к разговору её крылатую, постоянно исчезающую душу. У Марфы все разговоры о смерти, порой она не понимает, порой злится, зовёт поименно всех умерших в деревне и место себе на кладбище требует.
Орест и Федор дружно вскочили при виде Евдокии, стали тащить присесть рядом с ними на травку да «покалякать» о прежней жизни. Евдокия садиться не стала, и от коньяка отказалась, сказав, что за всю жизнь капля спиртного во рту не бывало.
−Как, Василий Павлович, Анна-то твоя? Слух есть в больнице?
−Уж дома, Григорьевна, дома.
Сидели долго.
Судьбу бабки внуки отдали попечителям-ангелам. Чего вмешиваться, сколько отмерено, столько и отживёт.
Крутили словесные жернова «по правилу левой руки» и «по методу буравчика». Много перемололи всего на белом свете, ибо в трезвой голове свет велик, а в пьяной, да – двадцать лет не виделись, да – один умён, а другой умнее — о, сколько идей и прожектов вспыхивает и гаснет в градусной отраве!
Вот где человеку место под солнцем?… святой Дух не знает. Мир обширен, и глубок, и тесен; в государстве есть армия и флот, есть генералы, банкиры, нефть, церкви, партии всякого толка, памятник Петру Первому работы Церетели … всего до выгребу, а нет, нет порядка в нашем Отечестве!..
Есть Дальний Восток, который тихой сапой подминают китайцы, − тема. Зерно за границу утекло, в колбасе ноль процентов мяса – всяк русский человек о колбасе мечтает с рождения. Федор орлом налетел на Аллу Пугачеву с её «фабрикой звезд» – зажирела Пугачиха, Максим Галкин уже не устраивает. Или певица Бабкина? У, горлопанка! Меняет мужей как перчатки – в колхоз её, пожизненно скотницей на двор! Воображение Ореста рисует фантастическую картину конца света…
По родине и ворон плачет; жалели братья родное болото с комарами и ягодами: и зачем Бог столько добра высыпал под деревню Ягодино?
Василия спрашивают про жизнь в колхозе.
−Что наша жизнь, вся тут, − развёл руками старший брат.
−Пашут, сеют? – спрашивает Федор.
−Бабы рожают? – гогочет Орест.
−И пашут мало, и сеют мало, а бабы… кому рожать-то? Из нашей деревни пять учеников в школу ходит, а помните, сколько из Ягодина ходило?
−Пятнадцать! – говорит Орест.
−Шестнадцать, − поправляет Василий. – Вовчика Козулина в интернат увезли после третьего класса. Водолаз. Навещал прошлый год родные края, в Архангельске живёт, своё дело поднял, скребёт днища кораблей от ржавчины и соли.
Не заметили, как солнце вывалилось из березы, как соседка обратно к себе прошла.
Деревенских мужиков вспоминали, не обошли вниманием соседа.
−Помните, как сосед зубные протезы в сортире выблевал? – ржёт Орест.
−Не надо мертвых тревожить, − воспротивился Василий. – Лучше скажите, как это вы такие машины дорогущие завели? – спрашивает Василий.
−Постом и молитвой, − пуще прежнего заржал Орест.
−И реформами кремлёвских старцев! – добавил Федор.
Стали младшие братья подкалывать, подъедать один другого. Вроде шутят; предлагает Федор Оресту тележку купить брюхо своё возить; Орест шерсти на своей груди потеребит, поплюёт на призрачный клок и к груди Федора «прилепит». Заколдую, хохочет, ни пуля, ни яд не возьмут. В каждом из них зависть забродила, вроде как желчь взыгралась: я думал богаче брата живу, я сверху, а брат, вроде, лучше?..Ты на какие шиши машину завёл? А ты на какие? В «Лексусе» 300 лошадей запряжено, в «Ягуаре» 500. Один до 100 километров в час разгоняется за 5 секунд, другой за 8. Предмет достатка – дача, предмет роскоши – любовница. У обоих есть то и другое! У одного дача в три этажа, у другого под дачей бассейн, теннисный корт, крокодил Гена в ванне плюхается. Жаль, народу деревенского мало собралось под березой. Легонько открываются братья. Нынче такой разговор на блатном жаргоне именуется «понты кидать». Орест круто живёт, а Федор круче. Он прошлый год мял пузом песок на турецком берегу, Орест махнул в Сибирь, к старообрядцам.
−Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна, – пропел Орест. − Я приобщился посещать святые места, был на Соловках, недели три кантовался в Киево-Печерской лавре, был в Берлине на Унтер-дан-Линде, жил в гостинице «Бристоль».
В школе Орест учился так себе, с двойки на тройку, а нынче декламирует Овидия (якобы в переводе Пушкина Александра Сергеевича). И прилично читает, пощипывает на груди шерсть.
О, люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовёт
К себе, к таинственному древу…
Оказалось, Федор рубит лес в Карелии и толкает за кордон. Лесу много. Скандинавам хватит лет на тридцать.
−Будем жить-не тужить, пока мутят воду наши патриоты.
Орест сколотил капиталец на сборе «старины».
−По домам щуняешь? – прямо спросил пораженный Василий.
−Надо же… − удивился и Федор. – Хотя ты и раньше чужим не брезговал, тот ещё был сатюк.
Вспомнили, как ходили с гармоньей в Березову слободку, и за что попал в тюрьму Орест.
−Это тебе надо было срок мотать, тебе! Ты же драку начал!
−Братишки, братишки…
Развязали хмель и чистый деревенский воздух язык Федору: лес он сам не рубит, бензопилу в руках не держал, черную работу выполняют «негры» — вчерашние колхозники, в силу финансового краха сельского хозяйства готовые на любую работу. Федор – мозговой центр, «мажет» где надо, кому надо, и знает, почем сегодня кубатура у нас и «по ту сторону».
−Работаем вахтовым методом. Делянку насмотрели, обмозговали «приход-отход», дождались ночи, рывок – и мы в шоколаде.
−Да вас стрелять, суки, надо! Стрелять! – кипит Орест, не по сердцу ему «шоколад» брата.
Двадцать лет не виделись и не помять друг дружку холки? Потомки нас не поймут. Не поймут! «Покорение Сибири Ермаком» − вот это понятно! Приплыли на лодках, и дали по сусалам кому следует дать!
Драться не дрались, бодались; первым делом Орест испробовал на брате «подтяжки Рокфеллера»; − крепче буксирного троса. Федор не остался в долгу и защипнул пуп Ореста, − меньшой брат взвыл на всю деревню; мирились, целовались, слезы лили. Слезы лили за погубленную деревню Ягодино, за Россию, за болото под деревней – какие раньше ягоды вкусные росли! – за бабку – пусть она живёт сто лет! Василий руками сильный, лезет разнимать братьев, его как «ковыльнут» Орешка или Федька, он не устоит на одной ноге, летит в траву.
Соседка Евдокия сидела у окна, смотрела «спектакль». Поначалу наивно полагала, что раз соседи обзавелись такими машинами, какие нашим колхозникам веком не купить, так они стали другими, уважаемыми, около штурвала власти крутящимися, а оказалось, такие же дурные, как и тридцать лет назад. Против Василия Павловича ничего против не имеет, золотой мужик.
Хозяйственный. Обоих дочерей в институтах выучил, замуж отдал. Пока мал был – не озорничал, а эти Пудёнки!.. золотая рота. Орешка у ихней коровы соски нитками перетянул, через то пришлось корову на мясо отдать. А Федьке было милое дело матюгами дверь разукрасить, лук выдергать. Однажды засверлил в полене дыру, пороху насыпал, и полено в ихнюю поленницу сунул. Хорошо Евдокия рассмотрела: зачем это торец полена оконной замазкой залеплен? Расковыряла – батюшки! Муж велел обратно заклеить да полено Пудихе положить в поленницу. Не стала Евдокия зло творить. Страсть покойный супруг Орешку с Федькой не любил. Где-то выслушал, что сравнивают глупых людей с обезьянами, и частенько повторял: «Облизьяны. На днях с пальмы сползли».
Василий Павлович родной сын всем жителям деревни Ягодино. Редкую неделю бабку не навестит. Каждый раз бабку совестит: « Да что же ты меня на смех выставляешь? Вот свяжу и увезу». «Увезет он… на-ко выкуси! – бабка кукиш внуку покажет. – Не смотри, что снегу много, я босиком и по снегу убегу». Зимой сугробы перекинут дорогу, так он гусеничный трактор схлопочет, районному начальству назвонит, а то и в газету заметку пошлёт.
−Арест ты Арест… поросенок плешивый.
Сидели под березой за полночь. Хорошие машины делают иностранцы. Вовчик Козулин приезжал на «Ниве», двадцать два года машине, Василий забрался, − места немногим больше, чем в его «сороковке». Вместительные машины клепают иностранцы, надежные. Федор и Василий спать сунулись на сидения, Орест уполз куда-то.
Всплывает над деревней солнце. Петуха у бабки не унять.
Появился Орест на горизонте. Сонный, рожа красная, мятая, изъеденная комарами. Под левым глазом синяк в половину бабкиной шаньги. Вроде шерсти на груди убыло или наткнулся грудью на чью-то поваленную изгородь… Волоком тащит выкованную лет полтораста назад цепь − снял с поваленного ворота колодца.
Бережно смотал цепь Орест, положил в багажник. Сходил к кадке под поток, умылся. Вынул из чемоданчика брюки и рубаху, оделся.
−Шишкин. Масло. «Утро стрелецкой казни», − кисло говорит Федор, сплёвывая кровь с губы.
−Давно ли? Шишкин – «Утро в сосновом лесу», а «Утро стрелецкой казни» − Суриков, − поправил Орест.
Стали собираться в дорогу.
Головы у всех гудят.
−Повидались, − виновато говорит Василий. – Эх-хее…А пить надо водку. Пусть из доски, из опилок, из нефти, из конского помёту, но отечественное пойло, а французский коньяк – чума бубонная.
У Федора кровоточат разбитые губы. Своей кровью испачкал сидение шикарного «Лексуса», на котором спал.
Ходили прощаться с бабкой. Сегодня бабка принимала гостей «во всей красе» − сидит за столом с подарками седая, иссохшая мумия, собирается пить чай. Во всю «ивановскую» шумит электрический чайник. Вода нынче не родниковая, из скважины, тяжелая вода.
Терпеливо говорил один Василий; бабка соображала лучше, чем вчера. Но снова спросила про «пензию» − вчера были у неё начальники из райсобеса, сказывали, как Орешке худо в тюрьме, просит денег.
Василий опять показывал бабке на Ореста, та вовсе умом смешалась.
−Да ты што?.. А тот… другой-та? Он ещё, − поскребла себе костлявыми пальцами по рубахе, − шерстистый…
Отвернул Орест лицо в сторону. Смотрит на печь. 1956 вырезаны цифры на боку глинобитной печи. Бабка сказывала: отец вырезал. Отец и печурки на боках вырезал, в печурках рукавицы сушили, носки. Лежит в одной печурке стопка писем. Прочитал адресат на верхнем: из Астрахани, значит, когда-то он посылал бабке.
−Тот уехал, баушка. Отпуск кончился. Ему прокурор колхозный пай цепью колодезной выдал, да и отпуска в тюрьме маленькие дают. Погостили, по деревне походили… С тобой поговорили…
−Мы с Евдохой чаю швыркнём и косить побежим. Надо народу пособить. Евдоха бает, от водопою, как по все годы начали, пять зародов по шесть промёжков подняли. Ты косы-то настрогал?
Больно уколол «отпуском» да «цепью» младшего брата старший брат! Очень больно! Под дых врезал! Раздул ноздри Орест, кулаки сжал, волком смотрит; Федор видит, у Ореста воротник рубахи, кажется, распрямился; понял состояние Ореста, стал намеренно давить животом на Василия, давая знать Василию, что пора кончать прощание.
Глянул Федор в вершину березы: не мешало бы скворечник повесить, но… некогда.
Василий ковыляет около своего трактора – голова садовая! – вчера забыл закрыть краник бензобачка, бензин ночью вытек. К Федору, так, мол, и так.
Федор открутил шланг, поточил бензин в коньячную бутылку. У меня, кричит, прикладывая пальцы к губам, бензин девяносто восьмой, разнесёт чего доброго твой пускач вдребезги. Василий смотрит, Орест из избы воровато бежит, шайку, в которую бабка мочится, к боку прижимает.
−Эй, счётовод! – окрикнул Василий Ореста.
Тот на крик оглянулся, мнётся, вроде, хочет шайку в крапиву кинуть, а вроде, в жизнь с ней не расстанется.
−Ополосни! – добивает Василий. − Машина провоняет!
Орест швырнул шайку в крапиву.
Плюхнулся в «Ягуара», на скорости вылетел с бабкиного двора.
Сходил Василий, шайку нашёл, вымыл – кадушка полна воды под потоком, в избу снёс, толкнул под бабкину лежанку.
Достал из подвала косу, стал обкашивать бабкину улицу. Себя бранит: нет бы раньше умом раскинуть, пока братья своими машинами не раскатали в блин… Некрасиво будет: умрёт бабка, придут люди прощаться, сказать не скажут, а подумают об них с братьями худо.
Идёт Евдокия.
−Уехали? – спрашивает.
−Уехали.
−Да-а, жалко не вина выпитого, жалко ума пропитого. Помнишь, третьего году учёный с худыми ногами из нынешнего Петербурга по деревне с клюшкой ходил? Корни, чудак, искал…Человек спасен в будущем из рук судьбы в настоящем.
−У меня пытал, что ждёт русскую деревню.
−Как же, как же, в наших полумертвых деревнях у каждой избы по замшелому Илье Муромцу сидит да ждет радетелей прохожих. Может, думал, раз ты кузнец, то сквозь раскаленное железо видишь?
−Да чего видеть, и так всё ясно.
−А я сказала: «Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, твердишь о счастье – который раз?»
−Ну, Евдокия Григорьевна!.. Удивила меня.
−Я, Васенька, сама себе удивляюсь. Ходила к двоюроднице Насте Барсовой в гости, она так испугалась меня! По избе мечется, в окошки суётся, чашку чайную разбила, да что, спрашиваю, сделалось-то? Поуспокоилась и говорит: «Преж наслаждение было на деревню вечером после работы смотреть, чувствовать себя защищенной, народ-то, народ-то какой преж был хороший! Преж гармонь на деревне заиграла, вся деревня в радости, а теперь мимо избы кто идёт, сердце обмирает: не ко мне ли? Как ко мне – по какой леший?» У них в деревне сын-алкоголик мать зарубил за сто рублей. Что деревню ждёт… Страшна не смерть, страшно народ видеть умирающий в забвении, сходящий с ума. Маленькой была, жил у нас в деревне старик, Чалым звали. Много раз в тюрьме сидел. Эдакой грибок сморщенный. Печь топил тем, што где-нибудь стяшит. Так этот Чалый повесит днём свою шапку на тычину, а ночью идёт её воровать. И дня три спит сном праведника. То, говорит, меня как клопы кусают, спать не могу.
−Выправь речь свою, Евдокия Григорьевна.
−Не в обиду будет сказано, прости меня, старуху глупую. Случилось мне видеть, как Орешка ваш в доме у Кислицыных обыск творил. Трезвому бы надо, его мотает, кричит, что опоздал…Чего брать, чего? Уж сто раз до закладного камня… Не в обиду, Василий Павлович.
− Я не обижаюсь, своя ноша… Бабка тебя заждалась, на сенокос собирается бежать.
− Отбегали… Давно было, в школе училась, не помню в какой и книжке вычитала: человеком движет голод, холод и надежда. Голод да холод наше поколение хорошо усвоило. Надежда… туман широк и прижимист.
Не косил, рвал косой дикую траву Василий. Печальными глазами смотрела на косца Евдокия, боясь оглянуться на деревню. Сердце её, давно наполненное грустью, вроде, радовалось, вроде, плакало; ни слов, ни мыслей не было у неё, был некий смутный восторг перед многообразием отжитого, − давно ли, кажется, в этот час деревней шло стадо мычащих коров, за коровами шли овцы, кричали дети… одинокий глубокий вздох ушёл в пустую деревню.
Снится мне деревня
Анна Сергеевна − не дряхлая, но седая от счёта природы. Неотлучное солнце и стужа безрасчетливо расточили на её голову много белой краски. Анна Сергеевна некрасивая старушка, красивой не была даже в юности. Замуж её никто не звал, родила сына, когда ей было почти сорок лет.
Никто в деревне, кроме соседки Вали, не знает, от кого она понесла. А было всё так просто… Душная весна; теплые потоки стекают с небес на землю. В деревне пусто. Идёт сев. Вечер. Уже поднималась короткая ночь, обещая сон и прохладное дыхание. Стук в дверь. На пороге вырос солидный, лысый, но моложавый мужчина в заляпанной грязью гимнастёрке. Оказалось − геолог.
Геологи в тот год бурили скважину километрах в двадцати от жилья, искали нефть. Приехали за водкой, а машина забуксовала, вот и ищет геолог трактор, чтоб «выдрать» машину.
− Что ты, родной, да какой у меня трактор? Садись, чайку попей, утро вечера мудренее.
Попили чайку, да и поладили. Открылся геолог: когда-то был женатым, когда-то был военным, повоевал с японцами. У жены были изумительные глаза, полные мольбы и блеска. Постельное ложе занял другой мужчина, толстый, небольшого роста повар. Дышал со свистом. Имел бабье лицо, а сколько искреннего певучего отчаяния и трепета выдавали его толстые губы! Жена выбрала его, несостоявшегося певца с соловьиным голосом. Толстяк обещал ей постоянство. Даже продукты обещался не покупать в магазинах, в его холодильниках «всякой всячины до выгребу». У геологов большие заработки, но деньги тяжелые; что заработает − пропьёт, а не пропьёт − отсылает дочери. Дочь у геолога училась в университете. Успела ли она полюбить случайного мужчину? Нет, не успела. Одно лишь сожаление было живо и печально в ней до сих пор: зря не попросила геолога остаться. А вдруг бы остался?
Двадцать четыре года назад сын Юрик не стал признавать за колхозом цены, точно сила людская происходит из одного сознания, подался в город. Сын с пеленок привык идти впереди других, тихий шаг сзади был для него позором. И двадцать четыре года мать ходит за пять километров на почту, ей постоянно хочется слышать родной голос. Всякий раз заранее готовится к телефонным разговорам. Уговаривает себя, что с Юриком всё в порядке, у Юрика доброе сердце, светлая голова, повторяет в уме нужные вопросы, ждёт уверенные, счастливые ответы. Всякий раз молится: только бы погода постояла хорошая. При сильном ветре, снеге и дожде связь обрывается, напрасно телефонный начальник кричит в аппаратной комнатке: «Аллё, аллё, дайте Ленинград! Аллё, девушка!». Связь вечно была плохая. Не иначе как бесы играют телефонными проводами. В трубке шебаршит, хрюкает, вмешиваются чужие голоса. Анна Сергеевна осторожно выспрашивает Юрика, не грубит ли он начальникам, не влип ли в какую дурную историю, с кем дружит или, упаси господи, не водится ли с плохими людьми, − её сын ни на что плохое не способен, а вдруг!.. «Юрик! Получил ли мой перевод? Мало, да больше нет. Юрик, береги ноги, не настужай!» Первые годы звала Юрика домой, хоть бы недельку погостить, крышу перекрыть, но сын был постоянно занят.
Пуст почтовый ящик; долго смотрит на фанерную зелёную стенку − как надеясь, что взгляд её вызовёт из нутра телеграмму или открытку.
Она жила и годами видела одну и ту же, нарисованную ей картину: весна, черёмухи облиты белым молоком; вечер, от реки идёт статный мужчина в элегантном костюме, в руках большой желтый чемодан. В чемодане всякие подарки для неё. Вот мужчина ставит чемодан на стол, раскрывает его, и то подаёт ей и другое, а она, вся в счастливых слезах, отнекивается: зачем, зачем потратил на меня столько денег? «А ты носи, мама, носи, не береги ничего! Я опять скоро приеду, опять всего навезу. Только бы ты жила, была здорова!»
Она постоянно напоминала упорному сыну, что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете: «и позаде, да в том же стаде».
Жизнь не шла, и не катилась даже, она переваливалась как разбитая телега с одного боку на другой, как теченье дыхания неведомого возницы. Один день радовал и беспокоил пребыванием, ощущением новизны, другой день − серый, как продрогший воробей, равнодушно тёк мимо, третий с чувственным стеснением вставал в уме непреодолимой чёрной стеной. Что-то неизвестное по жизни нёс каждый день; как в лампе иссякает керосин, так в человеке иссякает желание жить; годы − это западающее дыхание невозвратного детства.
Места себе не находила Анна Сергеевна первые годы. Она никогда не бывала в городе, скорее страшилась города, а вот одинокая соседка Валя − признавала только строгую красоту и не находила её ни в ком − отжила в городе тридцать лет и знает, что деревенских парней быстро прибирают к рукам смазливые женщины, особенно разведёнки. К разведёнкам, этим зубастым акулам, Валя питала особую неприязнь. Валя не уважала чужой жалости к себе − её сердце не надеялось хорошо жить в будущем, оно достаточно потрудилось на ткацкой фабрике, и мозг не хочет думать о смысле жизни, мозг был много раз обманут то новой квартирой, то клятвами верности одного рыжего моряка. Как-то раз её сильно оскорбил обыкновенный ряженый Дед Мороз. На новогоднем празднике, при великом скоплении веселящегося люда, положил ей на плечи руки, испытующе посмотрел в глаза, и закричал: «Никакого блуда! Слышишь?! Не позволю!» А она, молоденькая девчонка, в простеньком платьице, робкая, тонюсенькая, да какой блуд, господи? Как потом Валя вызнала, этим Дедом Морозом был председатель профкома, разведёнка Зимина, которую за глаза звали «Кобылой». У Юрика крепкие плечи, широкая спина, офицерская выправка − уж ненаследственные ли гены? – да попади такой парень в поле зрения какой=нибудь Кобылы!.. Он добр, наивен как дитя, а добрый человек всегда всем должен. Не маловажную роль играет квартирный вопрос. Пускай живёт Юрик в общежитии, пускай работает на станкозаводе и учится в вечерней школе, одно дело поздним вечером прийти к готовому столу, другое − к буханке ржаного хлеба и кружке воды.
− Валя, а вот если… − бывало, загадывает Анна Сергеевна. Она мучилась неизвестностью. За стенами её избенки во все стороны раскинулось тоскливое море ожидания, вопрошающая ночь, − как превозмочь забвенье сына, как расшевелить залегший мир, спрятавшийся от неё в далеком городе? С другого боку зайти, а надо ли трогать в себе истину чужого существования?
− Да перестань ты, − скажет соседка. − Не пропадёт.
Для сна нужен покой, доверие к жизни, а где его взять в сухом сознании потерянности? Дерево в непогоду с тайным стыдом заворачивает свои листья, и Анне Сергеевне было как-то стыдно: её бросил сын, единственный сын, которому она отдала всё! Много деревенских парней и девчат покинули родные пенаты.
− Хоть бы на день приехал… − с жадностью обездоленности, с тоской, копившейся год за годом, говорила Анна Сергеевна.
− Ты о чём-нибудь, кроме как о сыне, думаешь? − спрашивала соседка.
− Не-а… Истомилась я размышлениями всякими. Пишет, что женился, а на ком? Вон Дуся Ягодкина, истинно ягодка налитая! Вот бы пара, дак нет, понесло в этот город, на инженера, сказал, выучусь.
В глазах соседки постоянно стояло некое зверство превосходства, она на вопрос Анны Сергеевны даже отвечает от обозления, потому говорит с медлительной жестокостью:
− Да не всё ли равно?
Анна Сергеевна менялась в лице и чувствовала свою обиженную душу. Порой ей не хотелось говорить с соседкой, даже находиться вблизи её, но мозг, истомлённый думами и своей бессмысленностью, требовал общения.
− Обидно, если… Дуся со всеми прибойная, веселая, в конторе сидит, эх!
Через семь лет, осенью, к Анне Сергеевне приворотил председатель колхоза. Без лишних вступительных слов, опустился на лавку, пальцем показывает, чтоб хозяйка села рядом, говорит обиженно:
− Не надо меня райкомом пугать, пуганый я.
− Что ты, родной, кого я пугаю? Живу тихо-мирно, сама всего боюсь, − говорит изумлённая Анна Сергеевна.
− Тихо-мирно… а вот сынок твой ненаглядный топор на меня точит, взывает правление колхоза к долгу и справедливости. Мало, видите ли, мы внимания уделяем ветеранам колхозного строя. Ты вот раскинь умом, Анна Сергеевна, сколько в колхозе тех, кому помогать надо? А разве тебе печь топить нечем, или огород у тебя не вспахан, сена нет, а?
− Да что ты, что ты, Федор Федорович!
Тощ и бледен председатель, при близком соседстве тянет изо рта запахом прошлой жизни. Каждый год ездит лечиться на Кавказ, а толку никакого.
− На то пошло, Анна Сергеевна, много ли твой сынок в колхозе своротил? Мой парень в седьмом классе самостоятельно в лес за дровами ездил, а твой по берегу реки с удой в сенокос ходил. Ходил, поди-ко, от грусти и тоски тщетности своей, ходил по выкошенным наволокам, где пахнет умершей травой и сыростью обнаженных мест, да всё чувствовал себя обездоленным колхозником. Смысл жизни, так сказать, искал. Нашёл, ну живи, не трави других!
− Клянусь тебе, Федор Федорович!.. Уж не знаю, с чего Юрика бросило защиты у колхоза просить для меня?
− С того бросило, что колхоз у него в черепке как мертвое тело. Не знаю, в каких начальниках он ходит, но для меня он − невзрачность, унылость и некультурность.
− Уж я ему… я скажу, ты прости меня, и Юрика прости, не со зла он!
− Тот не со зла, другой не со зла… Мурик твой Юрик! Эдакая котяра гладкошерстная. Ладно, проехали.
Председатель ушёл, она провожала его до калитки, и долго глядела в удаляющуюся фигуру. И всё же радостно билось сердце от истинной радости: её сын думает о ней, заботится о ней. Вот было бы у него время…Жаль, занят. Работает большим начальников на заводе, это, Федор Федорович, не какой-то малюсенький колхоз, завод-то!
Сделала выговор сыну: не гоже поклёп на людей возводить, ничем она не обижена; у колхоза привычно бьётся сердце, терпеливая спина всегда в поту. И для всех колхоз − это надежное укрытие и покой.
Потом Юрик писал в письмах и говорил по телефону, что ему снится деревня; сын Шурка пошёл в первый класс; дочка Настя катается на деревянной лошадке; голос сына крепчал, стал всё больше меняться в сторону сознания серьезности жизни, необходимой для достижения вершин положения в обществе.
Сколько ночей пролежала она с открытыми глазами? Зимой и летом она наизусть знала всё: когда соседка Валя затопляет печь; чей в неурочный час взревел трактор; куда может спешить бригадир; отчего смеются проходящие под окнами доярки; чья брешет на другом конце деревни собака; чей петух пробил зарю − и снова в окошко ползёт рассвет, а потом тьма гасит свет, и жмётся к земле всё живое, и день за днём так. Подчас ей думалось, что существует без всякого излишка жизни, опечаленно − бессознательно, ночью одно сердце сберегает силы; утром надо затоплять печь, и если сердце перестанет толкать кровь, и полена не поднять.
Юрик медленно поднимался по служебной лестнице. Там, где выскочки в прыжке одолевали две ступеньки, он долго топтался по инерции самодействующего разума, но когда решался сделать шаг, шаг получался твердым и надежным.
Анна Сергеевна незаметно приобретает ветхость отживающего мира. Домишко её немного скособочилось, нижние венцы пошли в землю, картошки последний год садит ровно ведро. Погреб давно обвалился. Из-под одного из углов избы стал медленно выезжать закладной камень. Анна Сергеевна тыкала батогом землю под стеной и углом, вздыхала: уходит из избы тепло, уходит жизнь, подступает могильный холод. Плакать она давно разучилась. Если бы камень пополз обратно под стену, она согласилась бы ничего не знать и не слышать, даже жить без всякой надежды в вожделении тщетного ума своего.
Коль избе и той не надо стало опоры, значит, весь смысл жизни потерялся. Ничто ей была жизнь, ничто сын; глаза с удивлённой любовью смотрят на фотокарточку и непонятная сила велит забыть всё на свете, − чей такой ладный парень смотрит на неё? Мучительно вспоминала, чтобы она сказала незнакомому парню, но за эти годы так много хотела сказать, что всё смешалось в памяти. Перед фотокарточкой все слова были тщетны, были одни эмоции. Скорее всего, это был геолог, зашёл попить чайку и оставил на память своё фото.
Семена на посадку ей даёт Дуся Ягодкина. Она же принесёт корзину ягод с болота, рыжиками не поскупится. Хочется Анне Сергеевне самой побывать на болоте, а Дуся отговорит: «А чего болото? На нет исходит. Грусть одна. Вода да вороний грай населяют дали».
И много на селе появилось таких домов, таких хозяев печальных, как Анна Сергеевна. Куда подевалась сытость в желудке и семейное счастье в душе? Соберутся селяне ближе к магазину, одни речи, одни рассуждения: «А вот раньше…». «До Бориска Ельцина или до Мишки-комбайнера? Вот и говори конкретно, то: раньше, раньше». «А вот Федор Федорович… Кабы Брежнев ещё пожил… Хвати Америку…». «Уехали наши ребята да и правильно. Что вот сейчас, кому мы нужны, государству? Живём по талончикам, лапу сосём, а в городах…» «Отстань! И в городах одним цветом: очереди, талоны, грабёж, скоро в Москве метро остановят. Говорят, американцам кланяться в Кремле станут, ну как в войну, американцы тоже люди, помогут своей демократией. Кабы не разъехались свои, уперлись лаптями, разве так бы жили? Анна, твой Юрка при Мишке высоко взлетел, Бориско его в Москву не зовёт?». И любо Анне Сергеевне, и обидно: знает народ, что забыл сын мать, а телефонная связь − собака лает, ветер носит. Писем от Юрика нет, открыток поздравительных тоже, телефонная связь прекратилась − упали столбы, ставить стало некому, и незачем. Застывший взор Анны Сергеевны умоляюще пробежится по лицам сельчан. «Пока я не сумасшедшая и не без глаз», − медленно с обидными нотками в голосе молвит она. «Да ты что? − забасит бывший агроном белотелый Кадушкин. − Кто тебя чем упрекает? Нынче все в одном стремени». Повеселеет Анна Сергеевна, скажет: «Всё, говорит по телефону, снится мне деревня. Должно быть, жалеет, что в город подался. Жалей не жалей, река вспять не побежит».
В брежневские времена, кажется, вся деревня и вся земля, воспрянувшие помышлением отплатить сторицей за любовь к ним, пахли хлебом; зерно сушили на сушилках, зерно мололи на мельницах, зерно ссыпали в склады, зерно отгружали государству, на одну корову выдавали в сутки до четырёх килограммов муки. Задумчивые, бредущие по ветру волны хлебов − вот лучшее на земле зрелище! Солнце и ветер детства поднимали на дорогах пыль, жизнь была не исходящей вечностью среди спешащих, смеющихся, потных людей. Теперь же воздух прощальной памяти стоит не только над кладбищем и домишком Анны Сергеевны, он густо лёг на все дороги, склады, заросшие одичалые поля и обмелевшую речку.
Ушла в мир иной соседка Валя. Умирала тихо, незаметно. Анна Сергеевна держала её руку, а слёзы бежали, бежали и капали на подушку. «Прости меня, Аннушка. Спасибо тебе. Ты самый близкий мне человек. Оплакала меня живую…» − с трудом говорила соседка. Могилу копали нанятые в райцентре мужики. Увы, своих мужиков даже тело из избы вынести не нашлось.
Непрерывно действующее чувство ненужности и забвения доводит Анну Сергеевну до большой печали. У неё давно исчезло сознание своей общественной полезности. Она считает себя нахлебницей у государства. Если позволяет погода, она выходит за деревню, стоит, опёршись на батог у разрушенной пекарни. Ржавые дверные петли, пустые окна, гнилые стены − всё поглощается силой времени; это было грустно, больно. В этой пекарне она начала работать после седьмого класса, время было тяжелое, голодное.
Вспоминает, как на лошади зимой возила из родника воду, как однажды весной Вася одноклассник набросал ей в распахнутое окошко много цветущей черемухи…. Жив ли безвестный усталый геолог, случайно заглянувший на её огонёк? Кажется, вся природа опустошается вместе с ней. Всё постепенно кончается вблизи и вдали. Сколько бы человеку не набегало десятков лет, они бессильны, эти десятки, наполнить лирическое помещение, в которое они залетают за воспоминаньями порознь и кучей.
Разами от холода одиночества ей становилось легко и неслышно внутри, точно доживала последние свои дни; вспоминала лица, года, соседку Валю, события; близкое наслаждение прошедшим путало мысли, побуждало к движению и полному исчезновению. Чем дольше она сидела, лежала, думала в гуще неподвижности, тем больше в области сердца возникала тревога, похожая на боль: Юрик!
Шла зима. Радио работало, − линию к выборам подлатали, в магазине был хлеб, избрали нового депутата.
Радио задыхалось от хвалебных од в адрес товарища Ельцина. Хлеб возили кислый, должно быть, из иностранных отходов. А чего зря добру пропадать, русские всё съедят! Гуманитарную помощь пусть не каждый день, но продавали буханку на человека в сутки. Депутат изладился драчливый, с петушиным сердцем. Он долго терпел издевательства замшелой власти застойных коммунистов, сразу же, заручившись телефоном и секретаршей, оседлал демократического конька. Он обещал много. В первую очередь − повесить коммунистов на столбы вдоль дорог, как это делалось в древнем Риме.
Люди слушали, плевались, а отплевавшись, наполняли словами пустую тоску по счастливым брежневским временам; умственно полезно сидеть на кухне, слушать радио, не слыша слов и варясь в собственном соку.
Жаль, у человека одна голова во всем теле. Эта голова, смирившись общим утомлением, когда-нибудь засыпает, чтоб утром очнуться с остаточно − теплым и родственным чувством, − надо обязательно жить!
В бытность свою мать, царство ей небесное, рассказывала Анне Сергеевне, как конокрад и вор Хрен Дубов стал первым коммунистом волости. До революции был как заочно живущий, после революции смекнул, что для Советской власти выгоднее быть мелким хищником, худшим на вид и бедным до крайности человеком, со зверскими глазами превосходящего ума − издревле нищим везде почет и уважение. Не раз она говорила про этот факт Юрику, а сын только смеялся:
− Я, мама, не Хрен, юродствовать не буду. Я поднимусь наверх!
Юрик сказывал по телефону матери, что Шурка женился.
− Мама, свадьба была в Елизаветинском дворце. Представь себе, сто сорок три человека! Подарки, подарки, Шурку с невестой завалили подарками! Пили-ели из серебряной посуды, музыка, танцы! Невеста − дочь одного богатого еврея. Жаль, мама, ты не видела это! Представляю, как бы ты была рада за меня, за твоего внука Шурку, за внучку Настю!
Сын говорил, захлебываясь от радости. Он уже не простой инженер, он генеральный директор строительной фирмы.
− Мама, вот только появится свободное время!.. Мама, я виноват, ты прости своего непутевого сына!
Сегодня тяжелый горизонт как по обязательству выдавил из-под себя солнце. Лучи слабенько позолотили свисающую со стола бахрому скатерти, хотели перебраться на стену, поманить пасущихся на ковре лосей свежей травкой, но истратив силы, свалились в отдувающиеся облака.
Пахло снегом. Кричали вороны. По занесенной снегом деревне вилась натоптанная тропка к магазину. На вызов бежала молоденькая фельдшерица, длинная тугая коса хлестала девушку по спине. Сегодня участник войны Ипполит Дубов в магазине упал от голодного обморока.
Вечером, когда стало темно, Анна Сергеевна вышла на улицу. Небо опорожнилось от вихрей и туч, звезд было много, у звезд были лучики. Лучики шарили по охладелым угодьям, стараясь продлить чью-то маленькую жизнь. Лунная чистота, покорный сон всего мира овладели её душой. Она стала размышлять, что жизнь прожила в постоянном труде, подняла на крыло такого сына! …но неправильно жила, зря не любила город, − раз Юрику некогда, надо было хоть раз самой собраться и съездить в гости. Почему-то жену внука Шурки она представляла себе очень похожей на Дусю Ягодкину, красивую до прелести. Дуся уже пожилая, но всегда веселая, уверенная, мудрая и передовая.
С женой внука стало проще, придав ей знакомый образ, но как накормить − напоить ораву в сто сорок три человека?… «Это уму непостижимо! В Москве из танков Думу расстреляли, а у сына свадьба буржуйская! Куда Русь навострила дышло?.. Сто сорок три буханки хлеба, а карточки на вино, мясо, масло, да сыр, да всё остальное где взять?.. Было бы что хлебать, хлебать можно и деревянными ложками, не серебряными. Высоко – о, мой Юрик поднялся, высоко! А останься бы он дома, что бы он дома поимел, с его-то упрямым характером? Да скотный двор! Ну, тракторист бы, или бригадир… а, может, сменил бы на посту Федора Федоровича. Надо Юрику пенсию послать, сама как-нибудь проживу. Много ли мне надо-то? Комар больше съест». И с теми мыслями Анна Сергеевна вернулась в избу.
Погладила кошку и спокойно заснула.
Говорило радио. Почему-то у радио было заупокойный от ума и деятельности голос, утомленная физия бредущего созерцателя, страсть похожего на бородатого Карла Маркса. Борода была очень большая и косматая.
Анна Сергеевна всем нутром своим чувствовала, что это вовсе не борода, это горе теперешней жизни. Старушка спала на спине с открытым ртом. Ближе к полночи радио, висевшее на стене световой лужей, принялось тяжело вздыхать, бормотать несуразные мысли вслух; сошло со стены, потрогало спящую за плечо, душевно попросило: «Пойдём, оба мужика на улице стоят», − и Анна Сергеевна покорно шагнула за ним, норовя не приступить бороду.
Радио шло, как изверившееся счастливой долей живое существо, оглядывалось, манило шелестом веселой музыки; потопталось у дверей и сгинуло.
ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК
Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.
Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя малое. Воздух был спокойный, затаенный. Природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморозь — шевельнулась под снежным тулупом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащего Онучина лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная непонятными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу…
Он лежал навзничь на большой деревянной кровати под старым ватным одеялом из синего ситца в пестрой рубахе с расстегнутым воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.
На деревне топились печи, сизый дым поднимался сажен на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.
Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутками. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобиво отругала кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.
Василе-ей,— нараспев сказала она,— седни как, отвалило, не давит грудь? Сердишься? Ну посердись, на сердитых воду возят… Я вот седни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за рекой до войны жали? Народику — ну как наяву, гужом, и девки незамужние, и бабы, всех вижу.
Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали, что война проклятая кончилась… Иван-то в лазоревой рубахе с закатанными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит, из цела, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук крапивы с корнями надран.— Васька,— кричит на тебя,— ты чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал? — И давай тебя по голым ногам крапивой жалить… Васи-ле-ей, спишь, что ли?..
Кольнуло под сердцем Натальи: уж… Подошла торопливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:
Отыграл, Васильюшко-оо…
Страшно ей стало, тоскливо; рушилась жизнь, уходила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятавшаяся в пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья теперь очередь.
Осиротела деревня народом: из сорока шести домов в пору былого величия ее только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались?.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до крыши! Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет. Обошла Наталья товарок, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Ону- чину, как ходили в последние годы по всякой надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думу думать.
Лежал перед ними не дряхлый старик — отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил страсть как, баб — пуще того. Председателем колхоза был — каждое бревно по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.
Строгий был да отходчивый.
Кажется, сядет сейчас на кровати, обведет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.
Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить! Запевай, Егоровна!
Себя не обманешь: не вернется молодость весенней птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе да и ей. Коль Онучин раньше убрался — отдает домовину ему.
Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, когда ей прикачнет. Дунул ветер да спутал провода — сиди при лучине неделю-другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буево свезти.
– Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем
в чистое,— сказала Егоровна, самая сильная и решительная из старух. Егоровна еще держит корову, сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочитать что-то, да Наталья махнула рукой: не время еще.
Онучин, Онучин… загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху?.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.
Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и не жил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку…
-Подойди, птичка моя,— говорит Онучин. Стоит у свежесметанного зарода сена, распаленный, кряжистый. –Подойди! — шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь бросилась.
-Вот еще,— играет с ним Авдотья.
— Ангел ты мой единственный… Век бы тебя на руках носил, голубка сизокрылая,— голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической власти.— Ночи через тебя не сплю, как представлю, что ты на моей груди…
Ночи он не спит… а от кого Шурка родилась?
Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит, подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает?..
— Зазнобушка, иссушила меня…
Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.
Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги…
Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.
— Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки,— печально говорит Парасковьюшка.
Марья вытягивает лицо: не слышит, о чем речь.
-Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Телеграммку бы отбить. Испилят дом, а жалко… Испилят, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают…
— Им что, анкаголикам,—говорит Егоровна,—у Кузьмичовых ломали, так будто Мамай воевал. Одежку из сундуков вывалили, топчут, Катеринины ис- подки на себя примеряют, гогочут. «Эй, вы, говорю им, собаки!» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на меня оглядывается, похвалы ждет…
— Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенок пилить,— говорит Наталья.
— Почитать, может? — теребит псалтырь Парасковьюшка.
— Ночь-та твоя, начитаешься,— грубо говорит Егоровна. Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища — шесть километров, опять к алкоголикам идти на поклон…
— Придется самим,— говорит Егоровна.
— Пустое несешь,— возражает Авдотья, некогда румяная да статная, нынче — яблоко сморщенное.— Ты-то, может, еще и коренник, а какие из нас пристяжные…
Егоровна исподлобья смотрит, щурясь, пренебрежительно говорит:
— Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.
— Моложе, да,— качнула головой Авдотья,— счет не по годам веди, по зубам.
Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны — железные протезы.
— Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что кошка, и та беду чует. Гля, раньше все в ногах у Василья комалась, теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне,— говорит Наталья.
-Чего свечу-то не ставите? — спрашивает Марья,— Тяжело он с белым светом расставался.
-А ты почем знаешь? — кричит ей на ухо Егоровна.
-Болел долго,— отвечает печально скромная Марья.
— Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и Василей с нами столовается,— предложила Наталья.
-Тогда я за вином сброжу,— говорит Егоровна.— Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.
— Ой ли,— со страхом сказала Парасковьюшка,— трех ден не прошло, грех.
Домой? — тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.
-Сиди-сиди,— щелкает себе по горлу,— Помянем!
С уходом Егоровны всем стало не по себе. Егоровна была становой жилой деревни, опорой. Все настолько привыкли, что она будто мать над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и ничего, она даже прокурору Силинскому влепила затрещину, когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!
-Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и пугал, что украдут,— сказала Наталья.
— Ну, уж нет! — запротестовала Авдотья.— В голова поставим. Захочет Василей растянуть — она под рукой.
Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом — клоп раздавленный, пили, как могли. Кто — по глоточку, кто пригубил только.
Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала:
— Ну, дроля, играй, плясать пойду. Споем напоследок нашенскую!
— Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, ээ-еех, молода-а!
День-то какой, знамение тебе, Василей,— глянула в окошко Парасковьюшка.
-До чего же ты под старость набожная стала,— хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью.— Расскажи-ко, как в ваш колодец Парасковьюшка чурку опустила.
Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит Онучин, нет ему дела до бабьих сплетен.
-Ты-то праведница,— поджимает губы Парасковьюшка.— Не с тебя ли Онучин мешок с колосками снял?
-Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я… Расскажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали!
-Господи,— изумляется та, беспокойно ерзает,— веком, бабы, не бывало, вот те крест.
Много кой-чего помнят эти старухи, все поведать — жизни не хватит. Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась. Насколько глаз хватает, разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит лисица, принюхивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.
Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее псалтырь, рассыпались почерневшие от времени листы по полу.
Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу брести да брести.
— Ну, подружки, коль дойду — трактор пригоню, нет — на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!
Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой — качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла.
ВОРОН
Посреди поля спит овраг, шириной метров десять и глубиной метра четыре. Когда он образовался, никто не помнит, что разве одинокий ворон.
Небережливое многословие доступно всем, потому что оно бессодержательно. Это касается скверной осенней погоды. Тянет какой-то беспокойной сыростью. Подчиняясь логике данного рассказа, отнесёмся к этому факту замкнуто и самостоятельно, как к заглавному интеграционному ядру, где на небольшой ладошке российских просторов живёт и корчится маленькая деревушка, жители которой добровольно катают это ядро от домишка к домишку, не нарушая своей сделки с природой. Порядком приуставшая старуха Осень не иначе как ковыряется в гнилых зубах спичкой, выискивая корешки мёртвых трав, а краснощекая молодица Зима, знатно подрубленная сумерками, произвольно берёт ноты. Любуется своим станом утром, наклонилась ось дня − готова предложить Осени отступные, а ночью, с силой, равной квадрату световой дистанции, жаждет решительной битвы с ворчливой старухой.
От леса, от подросших елочек и сгнивших бунтов древесины, прижимаясь к самой земле, набегают обжигающие холодом вихри; на опушке, как на порванной нечистой силой огромной фуфайке, вроде кашляет сама нечисть − то по дуплам высоких пней шныряет ветер. Пятнадцать лет назад лес в этом урочище рубили в конце марта, снега лежали глубокие, потому пни получились богатырские.
На краю оврага растут три матерых сосны. На средней сосне гнездо ворона. Такое похожее на большую растрепанную корзину. Ворон опускается в гнездо, выдергивает ветку, поднимается с ношей и бросает. Описывает широкий круг, издаёт крик, в переводе на человеческий язык жёсткий и матерный, и за другой веткой. Зачем он это делает − непонятно. Журавлиная песня высоко в небе, до сердца ей далеко; волчья песня волос на голове дыбит; лебединой, говорят, никто ещё не слышал, а крик вороний пятки калит.
Просыпался мелкий снежок, но выглянуло тусклое солнце, остатками своих копий расписало деревню Барканиху, часть жара уперлась под низкие серые облака, а часть растопила снежок.
Есть ли вечная жизнь или её нет, Эдик Котомкин не знает. Будь жизнь вечной, плести бы ей, как гармони голосистой, звонкие переборы, а то скрипит, бурчит, ровно сухие грибы на нитку нанизывает. Эдик из старой конюшни рубит себе пристанище. Погорели Котомкины ближе к Ильину дню. Иной бы мужик злобу завёл в себе против всего мира, напускным безразличием бы насытился, у Эдика характер немного колючий, но душой − не сдаст! Ютятся в соседской бане. Дала на погорелое место бабка Серафима телевизор, вот и вся роскошь. Колхоза нет, колхозных квартир в помине нет, есть старые бесхозные деревенские дома, какой дом без крыши, у какого и окна вывалились. А жить надо! Надо!! Ему ещё тридцать четыре года, жене столько же, старшая дочка зиму дома училась читать и писать. До школы десять километров, дорог нет, машины у Эдика Котомкина нет, денег нет, банк в кредите отказывает. Что он выставит в залог? Одни фиги в карманах.
−Ума у тебя − палаты, − как шилья в колодку втыкаются свои деревенские старики и старухи в Эдика. − Ты нашей власти веришь, депутатам веришь, обещаниям? Э — ээ, милок! Да ты погляди кругом, упрямая голова! Кому мы нужны в своём заточении? Нам на роду написано тут доживать, тут помирать, а ты-то!… Ты-то чего тут забыл? В деревне двадцать один пенсионер, да какая мы рать? Мы − обуза всей власти! Богадельня! Молим бога, чтоб свет не отключили, а уж пропитаться − в войну кору сосновую ели − выжили, а теперь нас не забить.
Слушает такие речи Эдик, то зажгутся его глаза, то погаснут.
−Подождём, − отмахнётся.
−Ага, жди, когда чёрт сдохнет, а он ещё и хворать не начал!
Или жена прижмётся к нему, высокому, черноволосому, черноглазому, обнимает сухую и мускулистую фигуру, да носом передёргивает:
−Может…может нам в райцентр?
−Не может, − скажет Эдик.
В ясном, почти всегда спокойном лице жены, было всё же необычайное смущение. Когда говорит, лицо немного раскраснеется, даже уши порозовеют, и слышит, и видит она то, чего не видят и не слышат другие.
−И чего ты у нас такой вредный? Вроде не глупый, вроде руки из того места растут….
Будучи порой в крайнем недоумении, а точнее, в сильной досаде, − на что решиться, выйдет на деревню и в задумчивости присядет на лавочку возле берез, думу думает. Непостижимое противоречие сердца человеческого! Чувства, которые рождает оно, порой настолько мелочны, что не стоит за них запинаться ни одной клеточке мозга, а порой родится тихое чувство, смешанное с глубокой грустью, с сознанием невозвратимой утраты, или замешанное на мучительной отраде, и встрепенётся все тело, оживится восторгом, как будто изнемогая под сладким бременем стыдливой и непонятной неги, и примется мучить обладателя сердца сутками. Сватался к ней Коля Волков, в Мурманске живёт, рыбу ловит, и почему замуж не пошла? Не любила? Жила бы теперь в городской квартире, лиха не знала, в театры ходила, детишек каждое утро в школу отправляла… «И теперь не знаю, любила я его или нет. Скорее − не любила. Нет, не любила, и никогда бы не полюбила! Что ты, как можно его с Эдей моим рядом поставить? А нравиться − нравился. А как сказал однажды с презрением: «Ах ты! Не тебе бы говорить, не мне бы слушать!» Обиделся… А на что обиделся, дурачок? Да разве порядочная девушка будет любезничать ночью на стоге сена с незнакомым парнем? Кому век свой дела нет, и тот уши вострит, глаза выронил. Какой быстрый! Навалился, руками полез…»
Эдик найдёт её под березой, пожурит, что на улице Покров скоро, она же думает − круглый год лето будет.
−Оделась бы, не Петрово говенье.
Посмотрела на мужа как человек весьма озадаченный.
−Не скрою, есть о чём думать, −говорит, вздыхая, Эдик.
−А о чём ты знаешь, о чём я думаю?
−Твои думы − мои думы, − посматривая куда-то в сторону, отвечает муж.
−А как знаешь, чего не решиться не можешь? Чего узел не разрубишь, хотя узла-то никакого нет?
−Нас ждут в райцентре? Ага, ещё как ждут! Что мне заместитель главного поселенца сказал? существуют, говорит, три непреложных сущности, которые никому забывать не советую: не проси, не верь, не плачь. Говорит мне, а сам вроде как боится, что подслушают. Дверь плотнее прикрыл, ещё и у двери постоял, как убеждался, нет ли кого лишнего на коридоре. Кто, спрашивает меня, по-твоему, я? Номенклатурная единица. Где жильё? А нет жилья. Нет, и планов на строительство нет. Всё растащено, пропито, прихватизировано. Дай я тебе какую нибудь конуру сегодня, ты завтра пойдёшь горланить, что живёшь хуже всякого негритоса! А я куда? Меня без мыла брить станут. Как, почему? В Кремле соцсоревнование идёт, кто кого речами ошельмует. День ото дня живём лучше, лучше, богаче, дольше… заработки, дачи, машины!…Пропади всё пропадом! А тут важного туза, защитника сирых и убогих, с верхов леший принесёт, ты к тузу, меня за хобот да под зад коленкой, и побрел Юрьевич к вчерашнему уголовнику щепки от станка относить. В средней школе интернат давно закрыт, ты куда с дочкой? Один выход: ищи квартиру, но скажу честно: процентов 60 от заработка пойдёт на оплату жилья.
−Живём мы как свиньи, однажды возьмём и умрём, и не будет нас, как будто никогда не было, − сказала жена со злорадством в голосе.
И замолчала, угрюмым взглядом глядя в маленькое оконце бани. Даже верхнюю губу закусила и только минуты через три способна была говорить.
А вчера он наклонился над женой, лежащей на раскладушке, растерянно глянул на широко раскрытые, с умоляющим выражением глаза, мокрый лоб − губы жены шевелились, она или молилась, или звала на помощь, он не знал, и осторожно спросил:
−Болит чего?
Жена молчала.
Эдику жаль свою лапушку, сердце его болело при виде её страданий.
−Таблетки какие?…
Потом он мерил шагами баню и возбуждал в себе решимость и спокойствие. Ему было немного страшно и хотелось бежать прочь от всего постригшего горя. Страх за удивительную жизнь детей, доверившихся ему, страх за жену, покорную и нежную. Кабы не пожар!…
Утром твердо решил держаться бодрее. Он подумал, что не всё потеряно, что печалиться никак нельзя, и сегодня же он напишет письмо самому губернатору. Катил на стену бревно, настроение было хорошее и приподнятое. Веселое чувство победителя наполняло всё его существо.
Издали, от своих углов, наблюдала за ним старая Серафима. Он, оглядываясь, видел её поднятое лицо, восторженно − напряженную фигуру, подносимый к лицу фартук. Лицо у Серафимы всегда обращено к добру, к радости, да зайди к ней в гости, и утешит, и накормит, и спать уложит. Звала Эдика с семьёй жить к себе, в тесноте, говорила, не в обиде, не захотел Эдик стеснять добрую старушку.
Пришли два старика, деду Васе восемьдесят, деду Васильевичу восемьдесят четыре. Васильевич из себя худющий, хоть хомут на него вешай. Шапку Васильевич носит набекрень, только в сильные морозы кутается в шарф и поднятый воротник. Дед Вася лысый, юркий, руки у него загребистые с молодых лет, каждую весну стройку заводил. В молодые годы любил дед Вася сморозить какую нибудь небылицу о своей несчастной женитьбе, потряхивал головой и насмешливо улыбался, выставляя всё с забавной стороны. Нынче не смешит народ байками. Или перезабыл всё, или говорить о ковыляющей по избе с клюшкой бабке, охотки не стало.
−Да − а… двадцать две лошадки стояли в этих стойлах. Ты, Вася, Карчишка любил… вроде третье стойло от дверей? а я Бойчика, − говорит Васильевич, присаживаясь на бревно. − Силища в Бойчике была! С отцом на сруб трелевали, так он на старом Выстреле из чащи чуть не хлыстом вытащит, а мне на Бойчике тащить домой велит. Как попрёт, как попрёт!…Я рядом бегу да вожжами хлопаю: давай, давай, не останавливайся, то с места не сорвать!
Помогают старики Эдику. У Васильевича топор в руках играет, а топор деда Васи худо откликается на вызов топора Васильевича.
−В пустую, Эдя, бьёшься, − говорит дед Вася.
−Твою бы хватку да годков пятьдесят назад, а теперь что… − вторит Васильевич. − Вот бы когда колхозы распускать надо было!
−Всё этот пьяный бульдозерист, чтоб ему раз пятьсот в гробу перевернуться! − говорит дед Вася.
−Это ты про Ельцина? − спрашивает Васильевич.
−Про его. Гаранта нашего, Стакановича. А чего, Васильевич, после него не гады пошли? Да гад на гаде, вор на воре и вором подпоясался!
−Переживём! Да − а, воздух вожжами сотрясали, а кабы, мужики, да от правды хлопнуть?
−Хе−ее, народный мститель.
Чёрт был живуч.
Туго лезет новое в головы старых колхозников. Слушают, слушают болтовню в телевизоре, сойдутся, только что не скрипят языками:
−Вот сволочи! Кругом воры! А мы жили…копеечку к копеечке слезой клеили.
Через полтора месяца пришёл ответ от губернатора. Эдик Котомкин был вызвал повесткой в районную администрацию. На запрос Котомкина Эдуарда отвечал главный поселенец, то бишь, глава района господин Недокипелов Павел Иванович: программа расселения жителей умирающих деревень утверждена на самом верху, разработан Пилотный проект, рассчитана смета, через семь− восемь лет все жители деревни Барканиха переедут жить в благоустроенный квартиры в райцентре. Долго ходило прошение, в мозолях воротилось домой, и было вслух зачитано томным голосом господина Недокипелова, гражданину поселенцу Котомкину. Говорил демонстративно вежливо, с оттенком официальности, сидевшая рядом секретарша торопливо строчила в блокнот. Так-то, поселенец Котомкин, придумаешь опять жаловаться, мы тебе этот текст отпечатаем на память.
−Спасибо, − сказал, сжимая кулаки, поселенец Котомкин.
Конский дух в хоромах Котомкиных. Жена и старшая дочка как могли обтирали стены горячей водой, да крепко потом пропитались бревна. На потолке мох, в щели, если сильнее хлопнуть дверью, сор сыплется. Основная пища − картошка. Главное − тепло, ещё главнее − все жильцы помнят прописные истины: не верь, не проси, не плачь.
−Слышь, Эдя, гектар земли охочим дают, − хохочет как-то дед Васильевич. − Кому бы всучить хоть приусадебный участок, а? По ящику кажут, что из городов едут на природу, на чистый воздух, вдруг да какой идиот объявится… Это надо же, дурнее себя власти ищут! Дадут гектары, потом налогом обложат, да таким, что жила на лбу лопнет.
−Как не лопнет. Одна лопата в хозяйстве. Гектары − ладно. Налогом обложат все постройки, а я…поломался же за жизнь-то! Как щепка в весенней реке вертелся. У меня одиннадцать построек с баней да хлевом, вот это − да а! Строил, строил, а хватись жить − и жить негде,− охает дед Вася.
−Так что, Эдя, ты в самом козырном положении, − продолжает дед Васильевич. − У тебя дом сгорел, а эта халупа не числится, с тебя и взятки гладки. Надо тебе, Вася, запаливать свои постройки. Как снегу потолще выпадёт, так и поджигай.
Через Барканиху гнал на медвежью забаву московский опричник. Якобы егеря видели медведя шатуна, такой медведь большая опасность для поселенцев. Есть у опричника под рукой добрый молодец в красной рубахе, молодцу поставлена задача с рогатиной и ножом прыгнуть в берлогу, а хозяин будет снимать на кинокамеру момент яростной схватки человека со зверем.
Ядрёное морозное утро встречало Эдика Котомкина.
Когда проносились «бураны», Эдик стоял у своей хоромины, улыбался этому утру − голубизне, летящему самолёту; он стоял и щурился, и в глазах пересыпалось солнце; уверенный, что после зимы обязательно придёт весна, весной он уйдёт на болото за клюквой, будет, стоя в воде горстями кидать в ведро ягоды… костёр, сменные сапоги, сменные портянки, он выдюжит,… потом зацветет мох, потом придёт лето с добрым солнцем…
На страшный шум двигателей выскочила из тепла жена, вроде как хотела бежать и кричать проезжающим, что здесь живут люди, а сжалась вся, побледнела, чуть не упала − ноги как подломились, оперлась о мужа. В избу заходила первой, испуганно − счастливой.
Спрашивает Эдик:
−Куда это ты с копыт долой?
−Видел того в белом тулупе сзади?
−Видел. Морду с похмелья не обгадить.
−Важная шишка! −выпалила жена. − По ящику правду-матку режет.
−Царь небесный? И что?
−Что, что… в гости бы позвать, пускай посмотрят, как живём.
Эдик усмехнулся одним ртом, сел на табурет, достал завернутые в старую мешковину инструменты, стал подшивать валенок.
Они не услышат диалог важного охотника и местного главного поселенца:
−Три года меня пустыми обещаниями кормишь, Павлуша. Или я мало перегнал зелени?
−Геннадий Константинович, отец родной! Я человек подневольный, вокруг меня сплошь зверьё, с потрохами сожрать готовы. Три раза совался к губернатору − мимо кассы. Весь областной ресурс съедают дороги, дороги, дороги! Везде надо между двумя кусками хлеба добрый слой масла положить.
−Темнишь, Павлуша, ой, темнишь. Дороги − золотое дно власти. Твой сын уже заканчивает Оксфорд, а моя охотничья база только в моей голове. Моих оленей доедают амурские тигры, из моих кабанов делают колбасу браконьеры. И что мне прикажешь делать? Надавить на губернатора, некоторым делам-делишкам дать ход? Осенью у вас в районе выборы, один парнишка толковый нарывается быть удельным князем, законопачу я тебя в Сибирь, Павлуша. От тебя пользы, как от козла молока.
−Воля ваша, Геннадий Константинович. Куда, куда я выселю этих несчастных стариков?
−Два года ты их переселяешь! Хватит меня водить за нос!
−Деньги, всё упирается в деньги!
−Что − о?! Какие деньги, ограбленный своей бедной семьёй несчастный Лазарь Перекипелов?
−Каюсь: грешен немного. Постараюсь. Начнём. Есть у меня на примете большой кирпичный гараж бывшей «Сельхозтехники». Пятнадцать боксов. Сделаем общежитие.
−Поверю в последний раз, Павлуша. Или − суши сухари!
Сломалась зима дружно. Ночь от ночи мелела небесная река, глазастые звезды утрами не хотели гаснуть, и белесые рассветы топили над болотом для русалок бани. Рассопливились горушки, умылись говорливою водицею. Когда от снежной перины остались рваные лоскутки, и солнце принялось яриться в окнах, пошёл Эдик Котомкин заготовлять березовый сок. Слух прошёл, что в райцентре приезжий москвич закупает сок и вроде цену даёт неплохую. С ношей туесков вышел в поле к трём соснам, с серьёзным вниманием, несколько даже по-детски, склонил свою голову к земле − мохнатая гусеница пыталась перелезть через коричневый узловатый корень; вскинул глаза к вершинам: сколько себя помнит, вороны всегда жили, а нынче вороньего гнезда нет.
Дед Васильевич морщит озябшее лицо, объясняет такое явление:
−Всякая нелепость имеет свою природу. У ворона глаз не щербатый. Чуткой он, ворон-то. Загодя снимается с обжитого места. Свинство какое-то замышляется наверху. Вот помяните меня на этом месте.
−Чёрт сдыхает? Война?− скупо усмехнулся Эдик.
−Не берусь предсказать, − угрюмо сказал Васильевич.
Дед Вася разволновался, сердце заколотилось в ребра:
−Уж было заскорузла душа, и на тебе!.. Кабы скопом умереть, в один бы час всей деревней!…
−А на беса нам умирать, да ещё скопом! Скопом имеет смысл умирать только за наше общее будущее, ибо тогда только каждый из нас уверен будет, что умер всего-то наполовину. Помнишь, Вася, кузнец Горев − сущее вылюдье, дупло липы забил досками, и в том дупле филин умер? Того году сперва Горева в сумасшедший дом отправили, потом Фёкла умерла, потом парнишка…
−Иродовы веки, − вздохнул дед Вася. − Не уж-то ворон?
−Выбирайся, Эдя, ближе к свету, забудь ты нашу деревню, − твердит Васильевич. −Авось спасёшься и бабу спасешь, и ребятишек выучишь. Ты не пьянь, не лодырь, ремесла знаешь − уходи! Завтра письмоноска прибежит, пенсии принесёт, так мы тебе все пенсии со всей деревни соберём, верно, Вася?
Заплакал дед Вася, отирает носовиком обвислые щеки, промокает глаза, самого дрожь колотит.
−Слабнуть стал ты, Вася, − укоризненно говорит Васильевич. − В наши годы это зовётся сентиментальностью. Пошли, выпьём по наперсточку, и печаль долой.
−Уезжай, Эдя, пожалей жену, − тяжело говорит дед Вася.
−А не поеду! И перестаньте меня уговаривать, − отрезал Эдик.
−Дурак, −качает головой Васильевич.
Наговорившись вдосталь, уж хотели расходиться по своим углам, как поросячий визг заставил всех сначала изумиться, потом сжаться в кучку. Деревней летели кабаны. В голове как большущая черная торпеда, выпущенная с подводной лодки, несся секач, за ним разномастная стая от полосатиков до больших свиней с хлопающими ушами. Грязь, брызги во все стороны!
−Вот это да! − в восторге закричал Эдик.
Дед Вася затолкал носовик в карман ватных штанов, зашёлся дребезжащим смешком. Взбросил на Эдика блеснувшие глаза.
−Скажи бы лет пятьдесят назад, что деревней кабаны забегают, на смех бы подняли. Это сколько же пудов в том, в переднем катилось?
−Говорят, до полтонны бывают, − ответил Эдик.
−Нам бы одного такого завалить, всей деревне на год мяса не съесть.
−Да от этого кабана дух хуже, чем от трёхгодовалого козла! Три дня в чугуне варить не сварить, − сказал Васильевич. − Тебе сказывали, Эдя, как твоя мать медвежонка из лесу принесла?.. В хлев к овцам посадила. Он ревел да ревел, а ночью медведица пожаловала, трёх овец на раз распласнула.
−К слову пришлось, про мать-то… − завёлся дед Вася. − С того ли, нет ли, заболела она чем-то. Тебе два года от роду было. Заболела и заболела, и умирать собралась. Везите, говорит, меня в поле, если в поле не умру, то домой выбреду.
−Возили мать в поле?
−А лошади не нашлось. Уборочная только начиналась. В бригадирах того году Николаевич срок отбывал. Подошвы смолой несколько раз с одного промажет, всё лето босиком пробегает. Нервный, задёрганный. Ногами затопал, кричит: «Нашли время умирать! Что я уполномоченному скажу?!»
Вроде спят туземцы истекающей эпохи, вроде сон мают.
Мелкими, сбивчивыми шажками, крадётся задворками тихая ночь. Пусть же безмятежно спят, избалованные обещаниями жить в светлом завтра, поселенцы! Веление сна объясняется и возрастом, и навыками, и неосуществлёнными мечтами, и огромной душевной жизнью, крупно прожитой впрок.
У всякой новизны имеется в запасе своя злобная сила.
Вечна только та сила, у которой нет цели.
Досыпай свой век, тихая деревня, такая до боли родная, властью раздетая, памятью заплёванная, до слёз беззащитная под чужим кнутом…
***
Где нивы щедрые трудами наполняли
года и дни, и радость через край,
и пахари к молитве припадали,
прося по осени обильный урожай, –
Там лес растет в пугливости, в смятенье, –
Пристанище тоски в родной юдоли,
угробленная жизнь, былое упоенье.
Кому теперь мечтать о радости и воле?
У сытой власти курс на города,
зачем старухи с колющейся грустью?
Зачем той власти долговая «борода»?
Деревня тихо вымрет в захолустье.
Весна придет, ей ничего не жаль.
Пусты потуги солнечного лета.
Горит закат. Преображения даль
венчает облако поджаристого цвета.
Земля не родит земледельца боле;
и зыбки нет, и даже нет креста.
Щемит душа, и в золотистом поле
Хочу узреть идущего Христа…
В пустых домах полночный гул забвенья, –
приют скорбящих, зябнущих теней.
Как тяжело мне слушать чье-то пенье
из палой тьмы, от закладных камней.
Когда-то жизнь надеждами взрывалась,
Дома рубились, пели топоры!
И лозунги бодрящие взывали:
«Давай, давай! Давай стране, орлы!»
Отдали всё. Взамен − одни реформы
и обещания в «светлом завтра» жить.
Фуфайка, сапоги, талон «для корма»,
Да стопку горькую под новый год испить.
Я не прощаюсь, − кепку вверх кидаю
в летящий купол, что тоске открыт.
Как будто жизнь навеки покидая,
бреду деревней и пою навзрыд.
Пою про жнейку, свадьбу, сенокос,
и слышу деда глас ответной дрожью:
«Смягчит тебе дорогу на погост
защитник Спас. Он утром ходит рожью».

 0
0  150
150