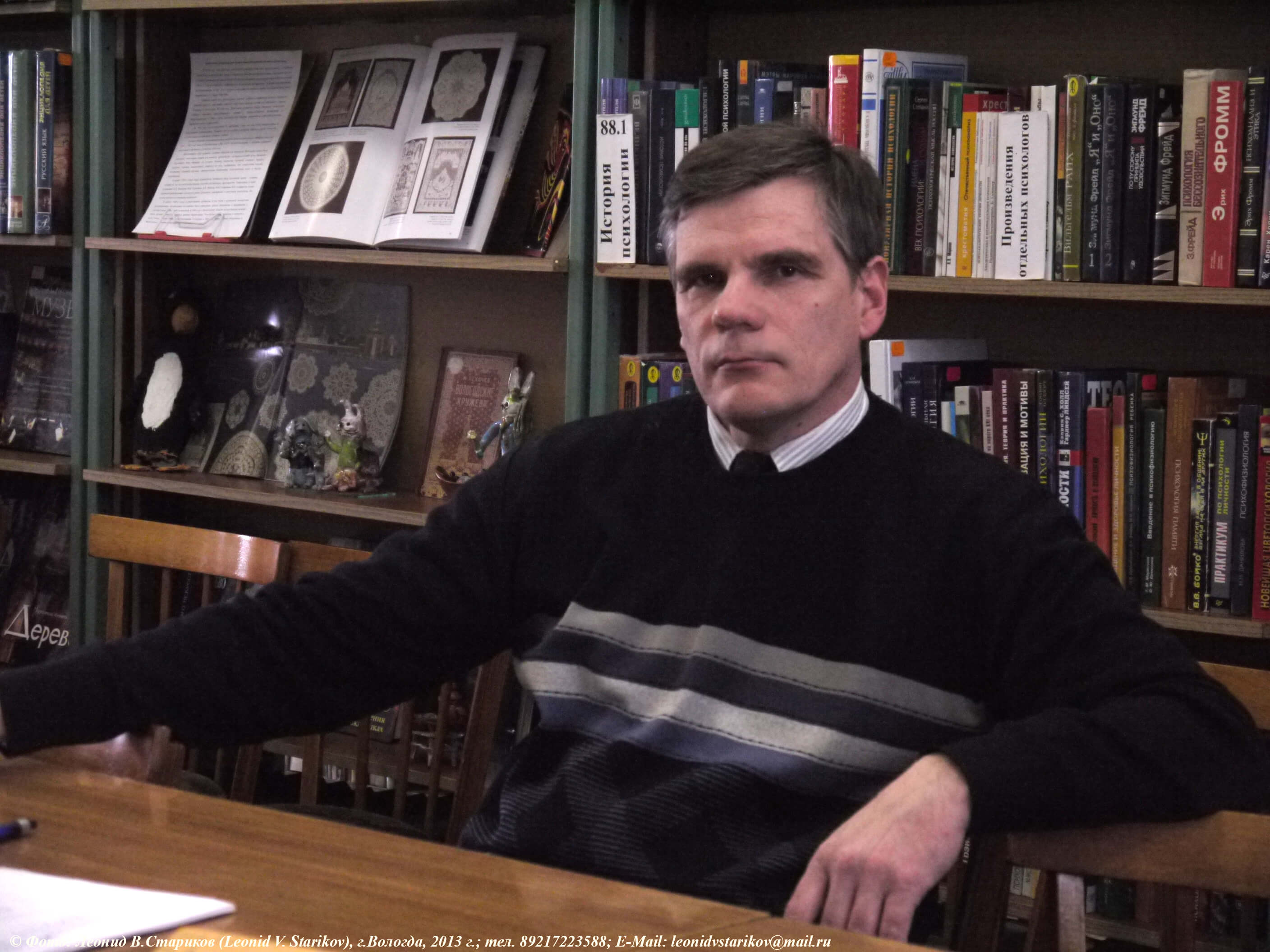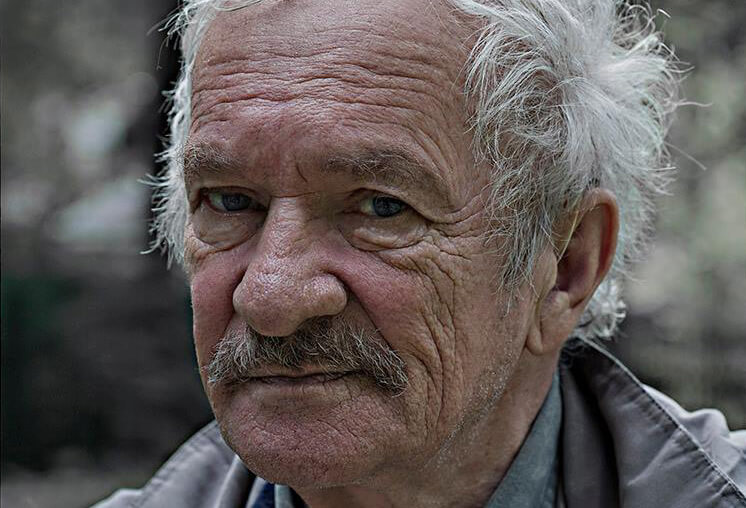Душа только в Боге утоляет свою жажду.
Святой Тихон Задонский
В христианстве слово свобода является одним из важнейших. Преподобный Марк Подвижник писал: «Закон духовной свободы научает истине, и многие знают его поверхностным разумением, но немногие уразумевают по вере исполнения заповедей делами» [Цит. по: 2, с. 235]. Таким образом, в христианском учении речь идёт о духовной свободе как возможности выбора между грехом и добродетелью. Подлинную свободу человек получает только тогда, когда освобождается от греховного рабства. Человек, получивший такое освобождение, способен познать Истину – Бога и Его волю: «Освободившись от расхищения и пленения помыслами, он допустится пред невидимое лице Божие – тогда познает Бога познанием живым, опытным» [Цит. по: 1, с. 548]. Такой человек стремится познать волю Божию и подчинить ей свою человеческую волю: Благословен еси, Господи: научи мя оправданием Твоим.… Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время. ((Благословен Ты, Господи: научи меня повелениям Твоим … Отрадно душе моей внимать судам Твоим во всякое время.) [9: Пс. 118, 12, 20].
Сила человеческой воли может быть направлена на отвержение греха и освобождение от его пут. И тогда человек, совершающий духовный подвиг аскетизма, приобретает духовную свободу. Но эта же сила человеческой воли может быть направлена на освобождение от внешних обстоятельств, мешающих развернуться человеческой душе во всю ширь ее чувств и желаний в этом земном мире. Такая свобода личности имеет множество граней и ступеней: от простого произвола в ущерб другим людям до высокого воодушевления на подвиг мужества ради блага других людей и Отечества. Именно об этой высокой ступени проявления свободной личности пойдёт речь далее.
Удаль – слово чисто русское, его нет даже в родственных славянских языках. Даже там несколько иные представления о жизненной силе и молодечестве. А удаль – наше, родное, как заметил А.С. Пушкин в стихотворении «Зимняя дорога»:
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.
О русской удали создано много народных песен. Об этом есть строки в поэме Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»:
Поют про Волгу-матушку,
Про удаль молодецкую,
Про девичью красу.
Удаль, как национальная черта нашего характера, воспета русскими поэтами и писателями от Пушкина до Рубцова. А.К. Толстой в стихотворении «Ушкуйник» поэтически изображает её как непомерную жизненную силу, которая требует обязательного освобождения, выхода, применения:
Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!
А и в сердце тая удаль-то не вместится,
А и сердце-то от удали разорвется!
Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,
Пойду к матушке на силу в ноги кланяться:
Отпустите свое детище дрочёное,
Новгородским-то порядкам неученое …
Но сила эта не только физическая, но и духовная. Народный поэт И.С. Никитин именно так её понимал, противопоставляя заботе, то есть многопопечительности и бессильному унынию:
УДАЛЬ И ЗАБОТА
Тает забота, как свечка,
Век от тоски пропадает;
Удали горе ― не горе,
В цепи закуй ― распевает.
Ляжет забота ― не спится,
Спит ли, пройди ― встрепенется;
Спит молодецкая удаль,
Громом ударь ― не проснется.
Клонится колос от ветра,
Ветер заботу наклонит;
Встретится удаль с грозою ―
На ухо шапку заломит.
Всех-то забота боится,
Топнут ногой ― побледнеет;
Топнут ногою на удаль ―
Лезет на нож, не робеет.
По смерть забота скупится,
Поздно и рано хлопочет;
Удаль, не думав, добудет,
Кинет на ветер ― хохочет.
Песня заботы ― не песня;
Слушать ― тоска одолеет;
Удаль присвистнет, притопнет ―
Горе и думу развеет.
Явится в гости забота ―
В доме и скука и холод;
Удаль влетит да обнимет ―
Станешь и весел и молод.
Удивительно, как поэт смог высветить все многогранные смыслы этого ёмкого слова, вместившего в себе духовный опыт русского народа. Противопоставление удали и заботы в этом стихотворении не случайно. Оно постоянно встречается в русской поэзии, как в классической, так и в современной. Удаль предполагает желанную волю и страсть не как выражение греховных помыслов, с которыми и связана многозаботливость, а как проявление полноты жизни. Об этом рассуждал в «Философских стихах» Н.М. Рубцов [ 11, с. 134]:
Зачем же кто-то, ловок и остёр, —
Простите мне, — как зверь в часы охоты,
Так устремлён в одни свои заботы,
Что он толкает братьев и сестёр?!
…..
В душе огонь – и воля, и любовь! –
И жалок тот, кто гонит эти страсти,
Чтоб гордо жить, нахмуривая бровь,
В лучах довольства полного и власти!
Поэтические противопоставления удали и заботы имеют прочную языковую и духовную основу, уходящую вглубь русской истории. У слова забота обнаруживается говорящее этимологическое значение, которое в наше время многими уже не осознаётся: первоначально это слово произносилось как зобота (забота появилось позже под влиянием аканья) и было образовано от глагола зобатися или зобитися, которые до сих пор сохранились в народных говорах со значениями ‘заботиться, беспокоиться, хлопотать’. Но первоначально речь шла только о хлопотах, направленных на материальное благополучие, на добывание пищи, поскольку глаголы эти являются однокоренными со старинными древнерусскими словами зобать — ‘есть’, зобь — ‘пища, корм’ [8, с. 254]. Они и сейчас употребляются во многих русских говорах [13, с. 320-321].
Смысловая и эмоциональная многогранность слова-символа удаль также заложена подспудно в его этимологии. Оно образовано от слова удалой, происхождение которого связано с глаголом удаться, что значит — завершиться успешно. Следовательно, прилагательное удалой (или удалый) обозначало черту характера удачливого, счастливого человека. Ф.И. Буслаев, выдающийся наш филолог, живший в XIX веке, подчеркнул это первоначальное значение данного слова, когда характеризовал былинного героя так: «Не зрелое суждение и опытность руководят его действиями, а удаль и надежда на удачу; потому он удалой, удача-добрый молодец» [3].
Только удачливость, или по-современному — успешность, раньше на Руси понимали иначе. Она предполагала мужественную силу, храбрость защитников отечества, которые приводят их к победе над врагом, то есть к воинской удаче. Об этом свидетельствуют и герои наших былин – удалые добрые молодцы, богатыри Илья Муромец и Добрыня Никитич. Именно поэтому в дальнейшем за словами удалой, удаль закрепились соответственно значения – храбрый, смелый и храбрость, смелость. Все древнерусские герои были людьми православными, их удаль была обусловлена их духовной свободой и упованием на Божию волю. Святитель Тихон Задонский писал: «Свободу духовную имеет тот, кто имеет живую веру» [14, с. 827].
Однако этические грани русской удали многолики. Удаль иногда переходит в вольность, а вольность в озорство, своеволие и буйство. Фольклорным воплощением такой удали был былинный герой Василий Буслаев, а затем и персонажи народных песен Степан Разин и Емельян Пугачёв, второй, правда, реже. Их удали сочувствовали иногда и наши поэты и писатели: Пушкин, Шишков, Цветаева (Да за удаль несуразную — / Развяжите Стеньку Разина) … Задумчивый и странный поэт Велемир Хлебников во времена нэпа тоже затосковал по воле и удали и написал в 1922 году такое стихотворение:
Эй, молодчики –
купчики,
Ветерок в голове!
В пугачёвском
тулупчике
Я иду по Москве!
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб катались глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась
по-дешёвке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.
Не зубами скрипеть
Ночью долгою —
Буду плыть, буду петь
Доном-Волгою! …
В 1996 году на это стихотворение обратил внимание вологодский поэт А.А. Романов в статье «Чудотворство» и написал: «Звучат они по-сегодняшнему злободневно» [ 10, c. 215].
В поэме С.А. Есенина «Пугачёв», которую он написал с намёком на послереволюционные крестьянские восстания 1918-1921 гг., есть такая реплика одного из восставших: Пусть он даже не Пётр, / Чернь его любит за буйство и удаль. Да и лирический герой в поэзии Есенина, как и сам автор, обладал этой удалью:
Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.
К теме разбойной удали как своеволия, противоречащего Божией воле, обращался Николай Рубцов в своей балладе «Разбойник Ляля». Это произведение, проникнутое традиционными образами и мотивами, тем не менее, имеет чисто рубцовское звучание. Грозный разбойник полюбил чистую прекрасную княжну:
Под лазурным пологом ночлега
Он княжну прекрасную увидел.
Разметавши волосы и руки,
Как дитя, спала она в постели,
И разбоя сдержанные звуки
До ее души не долетели…
Если в народной песне Степан Разин, в ответ на ропот своих сотоварищей, бросает за борт возлюбленную княжну, то в этой балладе, наоборот, разбойник Ляля отказывается от своего греховного ремесла ради своей любви к княжне:
Дни прошли… Под светлою луною
Век бы Ляля в местности безвестной
Целовался с юною княжною,
Со своей негаданной невестой!
Вместе со своей возлюбленной он мечтает:
Вот когда счастливый час настанет,
Мы уйдем из этого становья,
Чтобы честно жить, как христиане,
Наслаждаясь миром и любовью.
Дом построим с окнами на море,
Где легко посвистывают бризы,
И, склонясь в дремотном разговоре,
Осеняют море кипарисы.
Однако греховное прошлое не позволяет раскаявшемуся разбойнику «честно жить, как христиане» и насладиться земным раем. Его ближайший помощник по разбою убивает княжну и издевательски сообщает Ляле:
Атаман! Возлюбленная ваша
Вас в раю небесном ожидает!
В жестокой схватке разбойники убивают друг друга. Однако любовь торжествует: она вырвала атамана из тёмного мира злобы и преступления и вселила в его душу надежду на райский свет. В этом заключается христианский смысл баллады. Особенно он явен в её последней части, где повествуется о раскаявшейся разбойнице Шалухе, любовь которой к атаману пережила его гибель и воплотилась в легенду о нём:
Бор шумит порывисто и глухо
Над землей угрюмой и греховной.
Кротко ходит по миру Шалуха,
Вдаль гонима волею верховной.
Как наступят зимние потемки,
Как застонут сосны-вековухи,
В бедных избах странной незнакомке
Жадно внемлют дети и старухи.
А она, увядшая в печали,
Боязливой сказкою прощальной
Повествует им о жизни Ляли,
О любви разбойника печальной.
Так, скорбя, и ходит богомолка,
К людям всем испытывая жалость,
Да уж чует сердце, что недолго
Ей брести с молитвами осталось.
Собрала котомку через силу,
Поклонилась низко добрым лицам
И пришла на Лялину могилу,
Чтоб навеки с ним соединиться…
Да, на «земле угрюмой и греховной» только любовь побеждает безграничный произвол человеческой воли. Интересно отметить, что эта поэтическая тема звучит и у Сергея Есенина, любимого поэта Николая Рубцова. Только, если у Рубцова она воплощена в эпическое повествование баллады, то у Есенина – в лирический цикл стихотворений «Любовь хулигана» (1923 г.), посвященный актрисе московского Камерного театра А.Л. Миклашевской, чей «иконный и строгий лик» покорил «сумасшедшее сердце поэт» и заставил « в первый раз запеть по любовь»:
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел по любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
<….>
Даже тишайший Николай Клюев в бурные годы молодости в начале XX века задумывался над разбойной удалью [4, 148]:
О матерь-отчизна, какими тропами
Бездольному сыну укажешь пойти:
Разбойную ль удаль померять с врагами,
Иль робкой былинкой кивать при пути?
Былинка поблекнет, и удаль обманет,
Умчится, как буря, надежды губя, –
Пусть ветром нагорным душа моя станет
Пророческой сказкой баюкать тебя.
Баюкать безмолвье и бури лелеять,
В степи непогожей шуметь ковылем,
На спящие села прохладою веять
И в окна стучаться дозорным крылом.
(1911)
Подчеркнем, что с этим вопросом Клюев обращается к матери-отчизне и, видимо, к своей совести. В результате он не избрал ни судьбу разбойной удали, ни судьбу покорной робкой былинки. А выпала на его долю сердечная тоска по Граду Китежу, Святой Руси: Пусть ветром нагорным душа моя станет / Пророческой сказкой баюкать тебя.
С юных лет Клюеву была дорога духовная сторона воли – свобода от суеты и греховности мира и многозаботливости [5, 29]:
Широко необъятное поле,
А за ним чуть синеющий лес!
Я опять на просторе, на воле
И любуюсь красою небес.
В этом царстве зеленом природы
Не увидишь рыданий и слез;
Только в редкие дни непогоды
Ветер стонет меж сучьев берез.
Не найдешь здесь душой пресыщенной
Пьяных оргий, продажной любви,
Не увидишь толпы развращенной
С затаенным проклятьем в груди.
Здесь иной мир – покоя, отрады.
Нет суетных волнений души;
Жизнь тиха здесь, как пламя лампады,
Не колеблемой ветром в тиши.
(1904)
Однако поэт прошёл и через искушение революционной свободой, которую сначала идеализировал и понимал как стремление освободить народ от социального гнёта [5, с. 31]:
ГИМН СВОБОДЕ
Друг друга обнимем в сегодняшний день,
3абудем былые невзгоды,
Ушли без возврата в могильную сень
Враги животворной свободы.
Сегодняшний день без копья и меча
Сразил их полки-легионы;
Народная сбылась святая мечта,
Услышаны тяжкие стоны.
День радости светлой! Надежды живой!
Надежды на лучшую долю!
Насилия сорван покров вековой,
И просится сердце на волю.
На волю! на волю! В волшебную даль!
В обитель свободного счастья!..
Исчезни навеки злодейка-печаль!
Исчезни кошмар самовластья!
Мы новою жизнью теперь заживем –
С бесстрашием ринемся к битве;
Мы новые песни свободе споем —
И новые сложим молитвы.
(1905)
Тем не менее, слова воля и вольный (20) встречается у Клюева гораздо чаще, чем слова свобода и свободный (12), которые употребляются только в революционном контексте в ранних стихотворениях поэта. Но не сбылись юношеские мечты поэта о свободе, отражённые в его стихотворении 1905 года [4, 88]:
«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду».
Эту песню певал
Мой страдалец-отец
И по смерть завещал
Допевать мне конец.
Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землей пролетит.
Не безгласным рабом,
Проклиная житье,
А свободным орлом
Допою я ее.
(1905)
В конце жизни Н.А. Клюеву пришлось испытать в сибирской ссылке и голод, и унижение, и тюрьму, и, наконец, расстрел … Но чувство духовной свободы поэт сохранил в своей душе до конца, о чём свидетельствуют строки из его последнего стихотворения «Есть две страны…», написанного в 1937 году перед гибелью [5, с. 232]:
<… > Не бойся савана и волка,–
3а ними с лютней серафим!
«Приди, дитя мое, приди!» –
Запела лютня неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в кущи рая.
И первой песенкой моей,
Где брачной чашею лилея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!»
И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День!»
Судьба Николая Клюева и это его последнее стихотворение свидетельствуют о христианской истине, которую святитель Тихон Задонский выразил в одном из своих произведений так: человек «связан, окован, в темнице, во узах, в пленении, но духом всегда и везде свободен есть. Духа бо поработить и связать никто не может» [14, с. 824].
* * *
Последние мысли Клюева были о судьбах России. Он был уверен, что Бог не оставит его отечество. Ангел Хранитель шептал поэту:
«Его, как розаны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День!»
Во многом перекликаясь с Николаем Клюевым, об Отчизне и воле пел и Николай Рубцов [ 11, c. 246]:
<…>
Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачёвские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали …
Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда.
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда.
В этом и в других своих стихотворениях поэта звучит постоянно один мотив: любовь к родине сильнее буйной воли [11, с. 282]:
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
Для Николая Рубцова представления о воле и духовной свободе связаны именно с родиной, с Россией [11, с. 121]:
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Вольный простор русских полей и русской души невозможен без духовного маяка – Белой Церкви, то есть веры в таинственную высоту и глубину всего сущего:
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье. Меж этих
померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной
царской короны,
Но жаль мне. но жаль мне разрушенных
белых церквей!…
О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел,
под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет
таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду
достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы…
Отчизна и воля – останься, моё божество!
Таким образом, любовь к Отчизне и воле не противопоставляются, а сополагаются друг с другом и с Божией волей. Святитель Тихон Задонским отмечал: «Желание человека клонится туда, где сокровище души» [14, с. 341]. Поэтому не противоречила свободной воле поэта и его зависимость от поэтического вдохновения, невозможности им управлять:
О чём писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
[11, с. 87]
Вот так поэзия, она
Звенит – её не остановишь!
А замолчит – напрасно стонешь!
Она незрима и вольна.
Прославит нас или унизит.
Но всё равно возьмёт своё!
И не она от нас зависит,
А мы зависим от неё ...
[11, с. 150 -151]
Рубцов относился к своей поэзии как к Божьему дару, поэтому свою поэтическую волю подчинял воле Божией.
* * *
Тема Божией воли и русской удали удивительно своеобразно и таинственно звучит в незавершённой поэме «Пилигримы» Алексея Шадринова (1973-1992). Гибель поэта не позволила её завершить. Но и в той части поэмы, которую он успел написать, явно воплощены два образа русской удали, противоположные по своему отношению к Божий воле. Уже в прелюдии к поэме автор прикровенно говорит о том, что даже справедливые слова и действия человека не смогут поколебать вечное движение жизни по воле Божией [15]:
Уж раз упрёк правдивый не тревожит
Мир наших лиц, как он ни справедлив,
Мой лёгкий ветерок не переможет
Весенних вод бушующий разлив.
(с. 89) В основу символического сюжета поэмы положено христианское представление о земной жизни человека как о временном странствии, в конце которого мы вернёмся к нашему Создателю на Страшный Суд. После этого и решится окончательно наша участь. Главный герой поэмы – Старик-пилигрим, речь которого является голосом самого автора. Он рассуждает о смысле нашего земного пути и наших желаний. Находясь долгие годы в пути, он понял, что наша человеческая воля порождает бесконечные и часто пустые желания и мечтания, которые губят святость нашей первородной чистоты, которой мы обладали в детстве:
Три раза я на родину взглянул,
В трёх разных красках я её увидел.
Младенец чистый, выползши на свет,
Всемерно грудью матери доволен.
Вот так и мы, когда сравнений нет.
Поём свой дол, благословляем поле. –
Простор юдольный, где в твои глаза
Впервые заплескала бирюза.
Как мало надо? Кротость той поры,
Как и вселенная, не знает меры.
Но дни идут, по храму топоры,
Стучат, круша незыблемость химеры. –
Лукавой искусителя игры
В слепой черёд являются примеры.
И вот по свету катится молва:
За перевалом, на востоке солнца
Простёрлись земли, слаще, чем халва,
И небеса, что Господне оконце.
И с тех небес во тьму сует досужих
Нисходит благость в страждущие души.
(с. 97)
Старик прозрел и понимает всю тщету бесконечных поисков новых стран, новых впечатлений и новых желаний. Он сожалеет о своих заблуждениях прошлых лет:
Сумей понять, что жизнь нигде не нова,
Когда её очистишь от приправ.
Но я, самозабвенный пешеход,
Под чуждой сенью чуждого мне сада
Заснул и всюду видел Эль-Дорадо,
Тот сон и явь мешая наперёд.
Длинна стезя, ведущая к прозренью,
Ушли года, неискупим их срок.
К спасительному близок откровенью,
Я от бесплодных поисков далёк!
(с. 97-98)
Итак, безбожная человеческая воля приводит к бесплодным поискам новых радостей жизни и в результате – к разочарованиям. Однако своеволие человека может привести к ещё худшему результату – к преступлению. Эта мысль автора воплотилась в образе двух бродяг, которых автор назвал обезличенно Первый и Второй, поскольку они уже потеряли своё человеческое достоинство – отдали свою человеческую волю в руки тёмных сил и стали рабами греха. Старик прозорливо видит ненасытную сущность этих путешественников и символически предлагает им свернуть с этого пагубного пути. Тогда их не будет мучить алчность. Он предлагает им:
Советую Вам стопы повернуть,
За мной последовать в мой край благословенный.
Тогда, быть может, с первым часом денным
Смогу отчасти сытость вам вернуть.
(с. 99)
Однако этим людям чуждо подчинение благодатной воле умудренного жизнью старца, у них свое представление о свободной воле, вернее о беспредельном своеволии:
Блажен, кто чудной волей обладает, —
Она достанет хлеба и вина,
В полночный час устроит; одевает
Того, кто низок, мигом вознесёт –
Куда попасть и сам не чает тот.
И чтобы человек ни говорил
О подведеньи смертного итога,
Безденежье сносить не будет сил,
Смиренья хватит не намного.
(с. 100)
В отличие от них Старик-пилигрим знает, что всем в этом мире управляет воля Божия, не человек «кораблём управляет, а Кормчий единый!» Описывая солнечное затмение как знак гнева Божия, на который не обращают внимания духовно слепые люди, он восклицает:
Ужель ты не трепещешь, человек,
Перед мгновением страшной воли Божьей?
(с.112)
Читая поэму-драму «Пилигримы», поражаешься чуду, которое сотворил Господь на Вологодской земле: в конце кровавого XX века, на пороге начавшейся буржуазной контрреволюции, он дал нам чистого ангела, поэта-пророка, который с силой шекспировского таланта призывал нас не поддаваться бесовской алчности к богатству и к мнимой новизне впечатлений и ощущений, беречь чистоту и кротость души, и тем сохранить её свободу… Но библейская история казни невинного человека повторилась: девятнадцатилетний поэт был жестоко замучен в армии в 1992 году.
* * *
В наше время что-то стали забывать в русских городах и весях не только волю Божию, но и удаль молодецкую, и сердечную тоску. Всё заботы и заботы о хлебе насущном … Да ещё о собственной плоти, о престиже, о власти. Без радости, без воли и удали! Вместо этих живых чувств души всё шире распространяется их имитация, заменители-фальшивки. Затопило молодцев пьянство с его лживой удалью и тоской. А непьющим — в качестве компенсации вдруг в изобилии потребовался адреналин в сочетании с экстримом, кайфом, шоком и стрессом, а иногда и наркотиком. Слова-то какие всё чужеродные! Да и не жизнью от них веет, а попахивает какой-то медициной и смертью. И действительно, адреналин — заимствование французского слова adrenaline, которое в свою очередь образовано от латинского adrenalis, что значит припочечный. Этот первоначально медицинский термин, обозначающий гормон надпочечников и соответствующее лекарство, теперь часто употребляется и в устной речи, и в современной литературе, и в публицистике для обозначения острых ощущений, как правило, вызванных нарочито, искусственно в определённых ситуациях. В «Национальном корпусе русского языка», опубликованном в Интернете, представлено значительное количество примеров подобного использования этого слова в газетах. Обычно речь идёт о получении острых ощущений:
— у спортсменов (Мода на экстремальный спорт выводит из строя профессионалов и косит ряды любителей выплеснуть адреналин. [Наталья Барановская. // «Известия», 2003.02.03]; Короче, это чистый адреналин, особенно учитывая, что травматизм на таких скоростях гораздо выше, чем у всем привычного скейта. [Николай Ванин. Летние покатушки // «Хулиган», 2004.07.15];
— всевозможных игроков (Причиной этих чувств является стимулятор адреналин, тот самый, который наполняет кровь играющих в казино. [Артем Тарасов. Миллионер (2004)]);
— сыщиков (Ни один наркотик и рядом не стоит с ощущениями, которые дает сыскная работа. Вот где настоящий адреналин! Исаев был опером молодым, на Петровке служил недавно и не потерял еще чувства новизны. [Александр Хинштейн. Бригада // «Московский комсомолец», 2003])
— и у других людей, озабоченных поиском острых ощущений, часто не отходя от телевизора (в сериалах) или от компьютера (в социальных сетях).
Самое печальное в нашей современной культуре, что с помощью слова адреналин писатели новой формации пытаются изображать всевозможные «сильные чувства». Конечно, тон задают тексты самых тиражируемых ныне русскоязычных авторов. Вот отдельные примеры:
А может быть, горе выбрасывает в кровь адреналин, а счастье― расщепляет и выводит из организма. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002];
Весь адреналин переместился теперь в их нижние этажи. [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)];
Предвкушение драки. Адреналин начинает бурлить. Будто врубился в розетку. [Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008];
― Меня вчера трое сняли, ― щебетала Ниночка, блестя глазами, ― такой адреналин! [Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)];
― Ты себе представить не можешь, какой кайф, ― воодушевленно рассказывал Юра, ― чистый адреналин! [Дарья Донцова. Уха из золотой рыбки (2004)];
― Охота на леммингов. Адреналин под кожу, это не то… Ледовое настроение… [Людмила Петрушевская. Город Света // «Октябрь», 2003]4
В десятом классе любовь ― это адреналин, гормоны и обязательный разлад с окружающим миром. [Татьяна Устинова. Большое зло и мелкие пакости (2003)];
Тебя сейчас отпустило, но потом станет хуже, когда схлынет адреналин. [Татьяна Устинова. Подруга особого назначения (2003)].
Какие скука и холод начинают тяготить душу от этой пристальной заботы о собственной физиологии, от нарочитой жажды острых ощущений! А мне так по сердцу стихи И. С. Никитина, которого вдохновляли не гормоны надпочечника, а душевный порыв:
Явится в гости забота ―
В доме и скука и холод;
Удаль влетит да обнимет ―
Станешь и весел и молод.
У нашего вологодского поэта Виктора Коротаева есть стихотворение «Гонка», в котором поэт с горькой усмешкой разоблачает ложную удаль современных любителей шальной езды на автомобилях [6, c. 224]:
Лихачи
Современные парни.
Стала треком
Родная земля …
<…>
Выхлопные синюшные газы –
Дорожающий ваш «кислород».
Краски смазаны.
Линии смяты.
Воды словно бы движутся вспять.
Так вы жмёте на газ,
Горлохваты,
Словно счастье решили догнать.
Всё мне кажется …
Иль в самом деле:
В дни,
Клеймённые адским огнём,
За рулём родились вы,
Созрели,
И состаритесь вы
За рулём.
Только небо не станет лазурней,
И не станет спокойней в груди.
То, за чем вы гоняетесь,
Дурни,
Безвозвратно …
давно …
позади …
Поэт, который обладал широкой русской натурой и удалью, не приемлет подмены («Не надо мне синицу в руки, / Я с детства журавлей люблю»). Его искренняя душа протестует против всего неестественного, мелочного и лишенного истинного чувства.
Поэт и публицист Юрий Максин недавно на сайте «Вологодский литератор» (4 февраля 2018 г.) обратился к современникам, которых поработила страсть к автомобилям, лишила их естественной свободы. Называется это горячее воззвание «Раб машинный»:
Бываешь в различных городах России и замечаешь, что чаще всего, особенно на въезде, встречаются вывески «Автозапчасти», «Шиномонтаж», «Автомойка». Бывает, что эти магазины и сервисные центры соседствуют с храмами, что наводит на грустные размышления.И во всех этих и многих других «конторах» автомобилист обязан своевременно побывать и отдать должное своему новому господину – Автомобилю.
Современный человек обязан хорошо трудиться, чтобы «накормить» бензином, обуть, намыть, подлечить своего железного, бездушного господина Автомобиля, заплатить за него налоги. А господин этот – всё круче. Обходится всё дороже, всё больше привязывает к себе душу человека, как будто стремится переселить её из человеческого тела в своё – железное. <…> Люди! … Задумайтесь, почему, зачем, для чего вы посланы в мир, и откуда у вас душа. Не унижайте её, не будьте рабами машин! [6]/
У наших поэтов совсем иное представление о воле и удали, они далеки от машинного рабства. Например, у поэта Александра Пошехонова есть такие строки о воле:
Мне снилось клеверное поле,
Где до небес – рукой достать,
Где столько воли, столько воли,
Что невозможно не летать.
Именно о такой воле, связанной с духовной свободой, и думают многие русские писатели.
Но есть в наше время писатели совсем другого типа. Их духовная чужеродность препятствует им проникнуть в русское народное самосознание, понять и принять его, поэтому слово удаль вызывает у них злую иронию, как например у С. Довлатова в «Заповеднике» (1983): Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. <…> И тем не менее, в основе — безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?!».
Людей, лишённых истинного мужества и чуждых своему отечеству, Виктор Коротаев назвал недоростками в одноимённом стихотворении [6, c. 226]:
Рок зловещий,
Божья ли немилость –
А давно для мира не секрет:
Ничего из вас не получилось
Ни в осьмнадцать
И ни в тридцать лет.
Может, я кого-то обижаю,
Но всегда
И у народов всех
Юноши,
Не ставшие мужами,
Вызывают жалость
Или смех.
Мните о себе, что вы – персоны,
Голубая кровь,
Почти что знать.
А ведь сами в общем
Не способны
Собственного краха осознать.
Хвастая дипломами своими,
Вспомните о клятвах на крови.
Где же ваши подвиги во имя
Родины,
Свободы
И любви?
Где они,
Высокие порывы,
Гордый дух,
Решительная стать?
Лопнули порывы,
Как нарывы,
Даже неудобно вспоминать.
Вместо меди – пропитое злато,
Как возмездье – старость невдали.
Говорите:
Время виновато…
Молодцы, виновника нашли.
Нам перерастать любое время,
Чтоб ему указывать пути.
Вы ж до своего –
Дурное семя –
Даже не сумели дорасти.
Смех и жалость – всё, что я имею
По закону нынешнего дня.
Я сегодня
Просто вас жалею.
Время досмеётся
За меня.
Наши писатели-классики высоко ценили удаль как национальную черту характера русского народа. К их словам нам надо бы прислушаться, а не к лепету мнимо русскоязычных недоростков. Николай Васильевич Гоголь не только к своим современникам, но и к нам обращался, когда писал: «Удаль нашего русского народа — то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, ― которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого ― все позабыто, и вся Россия ― один человек» (Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями).
В защиту веры в жизненные силы русского народа, в его удаль Федор Михайлович Достоевский писал: «Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. <…> Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни нации …».
На том и стоим, тем и спасаемся даже в смутные времена русской истории.
Литература
- Брянчанинов Игнатий, святитель, епископ Кавказский и Черноморский. Творения. Приношение современному монашеству. М.: «Лепта», 2002.
- Брянчанинов Игнатий, святитель, епископ Кавказский и Черноморский. Творения. Аскетические опыты. М.: «Лепта», 2001. С. 548
- Буслаев Ф. И.. Русский богатырский эпос. СПб., 1887.
- Клюев Н.А. Стихотворения и поэмы. — Л: Советский писатель, 1977.
- Клюев Н. Стихотворения. – М.: Художественная литература, 1991.
- Коротаев В.В. «Прекрасно однажды в России родиться…». – Вологда: Русский культурный центр, 2009. – 303 с.
- Максин Ю. Раб машинный // Сайт «Вологодский литератор», 4 февраля 2017.
- Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. –М., 1959. – 717 с.
- Псалтирь учебная. –М.: Изд-во «Правило веры», 2006. — 797 с.
- Романов А.А. Последнее счастье. Поэзия. Проза. Думы. – Вологда, 2003. – 263 с.
- Рубцов Н.М. Душа хранит. Стихотворения. К 70-летию со дня рождения. – М., 2006. – 352 с.
- Рубцов Н.М. Стихотворения. – М., 1978. – 299 с.
- Словарь русских народных говоров. Вып. 11. – Л., 1976. – 363 с.
- Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. – М., 1996.
- Шадринов А. Стихотворения и поэмы. – М.: Золотая аллея, Наш современник. – 2001. – 128 с.

 3
3  177
177