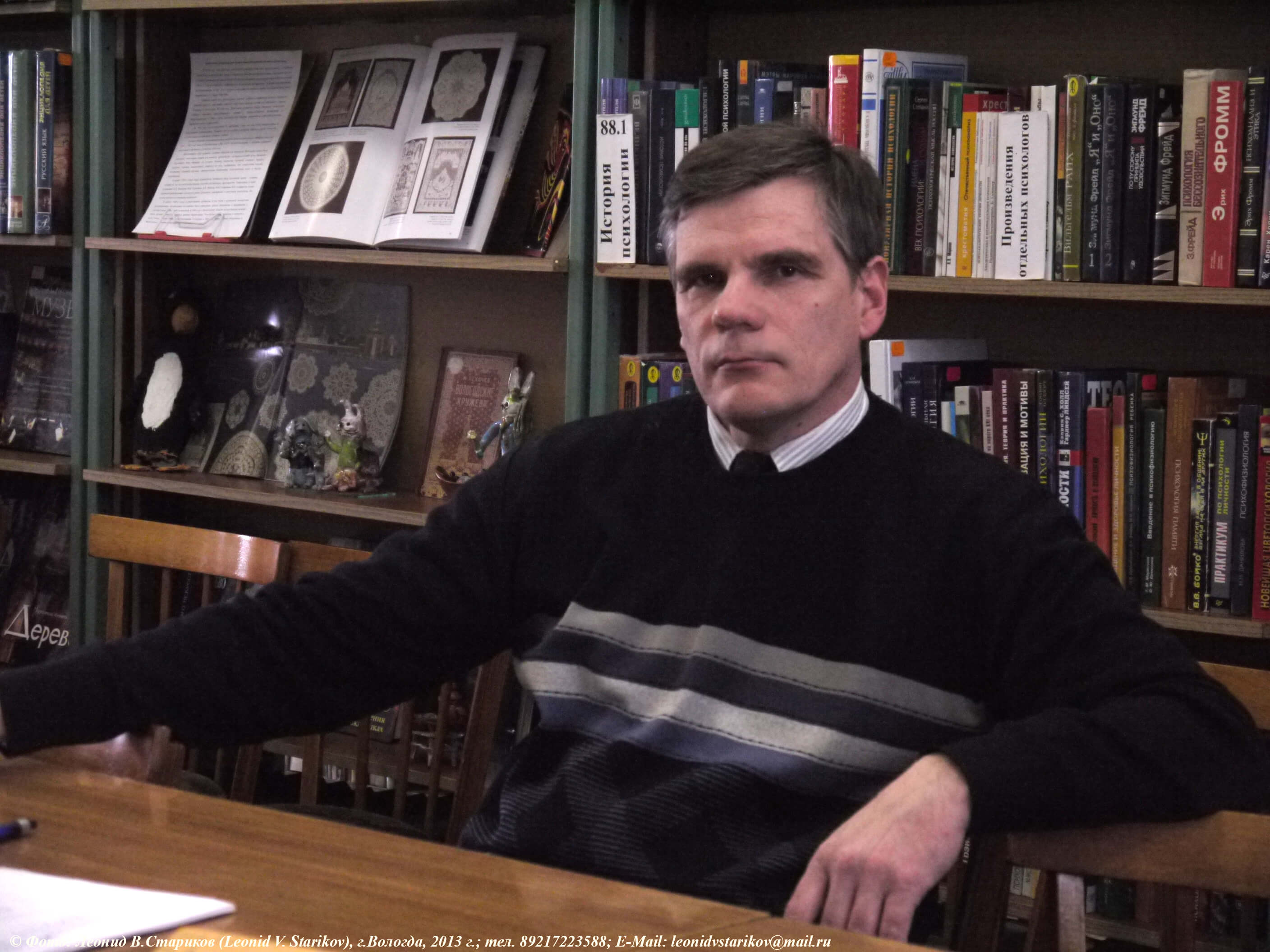Самое счастливое утро
…В то лето я демобилизовался, вернувшись из армии в московскую родительскую квартиру, и был свободен, здоров и счастлив, как может быть счастлив только двадцатилетний юноша, перед которым открыты все пути, а жизнь кажется бесконечной. Я волен был наслаждаться свободой целых два месяца — работа могла подождать, и мать отправила меня отдохнуть к бабушке, жившей на Черноморском побережье, в Дагомысе.
У бабушки был свой одноэтажный каменный дом, старенький, но крепкий, утопающий в зарослях диковинных пальм, инжирных деревьев и винограда. Три комнаты она сдавала отдыхающим, а сама ночевала на веранде, служившей в сезон еще и кухней. Неподалеку находилась маленькая деревянная дачка, в которой я и поселился.
Буквально через день к пенсионерке нагрянули наши дальние родственники из Калининграда, — из тех, кого называют «седьмая вода на киселе». Бабушка была не слишком довольна их приезду, хотя в двух комнатках, освободившихся от покинувших уютный дом предыдущих постояльцев, их уже ждали чистые постели. Родственники ее успокоили, категорически не согласившись жить бесплатно.
Семья эта была своеобразной: ее глава, коренастый и начинающий лысеть матрос дальнего плавания, несмотря на свой мужественный вид, никаким «главой» не был — им управляла жена, служившая официанткой в одном из ресторанов портового города. Настоящая природная блондинка, она могла вить из своего суженого морские узлы, чем и занималась в редкие месяцы его посещений.
Единственным ребенком в этой семье была любимица, десятилетняя дочка Оксана, хотя называли ее по-разному: то Оксанкой, то Ксанкой.
Ксанка пошла в мать: такая же красавица с льняными волосами и точеной фигуркой, только нравом спокойней и серьезней. Ее серо-голубые глаза с поволокой под пушистыми черными ресницами были очаровательны, высокий лоб с убранными назад волосами, скрученными в «дулечку» и упрятанными в мелкую сетку, как у юных балерин, делал ее лицо одухотворенным и ясным. Светлый короткий сарафанчик почти полностью открывал ее стройные ножки, обутые в белые «мыльницы»…
Меня она поразила совершенно взрослым взглядом на вещи, неожиданным для ребенка; мы могли беседовать часами, взаимно наслаждаясь общением. Ее мать, заметив, как мы сдружились, сама определила мое место в наших отношениях:
— Оставляю Ксанку под твою опеку, смотри, не влюбись! — и стала пропадать с мужем в ресторанах и затяжных экскурсиях.
Я рассказывал девочке о своей жизни, смешил воспоминаниями об армии, дарил ракушки, за которыми нырял у морского берега, пугал схваченными со дна пятнистыми крабами, в общем, развлекал, как мог, любуясь ее красотой и польщенный вниманием — так, как слушала она, уже никто потом не мог слушать.
Эта девочка-женщина хлынула в мою жизнь нежданной радостной волной, без нее я начинал скучать и тосковать, ожидая возвращения Ксанки со сладким нетерпением.
Перед сном, лежа на почти каменном матрасе деревянного топчана в прогретой за день душной дачке, я размышлял о своих чувствах. Упаси Бог, в них не было страсти и желания — разница в возрасте сказывалась, да и какой-то невидимый предохранитель внутри препятствовал телесному зову, однако душа моя стремилась к ней неумолимо, и признаюсь, дальние мысли о будущем браке посещали меня. Я, не желая того, выстраивал свою предполагаемую судьбу именно с ней, но в ужасе отказывался от стремления видеть ее своей будущей невестой — каких-нибудь восемь-десять лет казались мне пропастью, собственное далекое тридцатилетие — старостью, и я гнал от себя эту картину, холодея от преступной, как я думал, фантазии.
Однажды на пляже, где мы поджаривались всей дружной компанией, я не выдержал и восхитился Ксанкой, не стесняясь родителей:
— Из-за тебя совсем скоро будут сходить с ума, бросать, не раздумывая, к твоим ногам честь и совесть, стреляться — вот что может настоящая красота!
— Ого, вот это комплимент! — ее мать даже приподнялась с гальки и села, с удивлением глядя на меня.
Ксанка вспыхнула, как маков цвет, зарделась и стала грациозно, но все же по-детски танцевать на крохотной песчаной пляжной проплешине — то ли от радости, то ли от смущения.
На следующий день она явилась ко мне в дачку рано-рано и стала весело щебетать, одновременно показывая, как легко обращается с обручем, и — даю голову на отсечение — я видел в ее глазах отражение моего восхищенного взгляда! Более того, она, казалось, купалась в нем, желала его и знала, что во мне происходит!
За завтраком я случайно услышал материнский голос, звучавший неподалеку: «Представляете, Ксанка сегодня встала ни свет, ни заря и заявила: «Мама, я соскучилась, пойду его проведать, он уже не спит!» Каково?»
Не знаю, девочка была тому виной, или ее мать, благодарная за нежность и заботу о дочери, но родственники в один прекрасный и солнечный день решили сделать мне подарок — купить модную одежду в специальном «закрытом» магазине для мореходов.
Магазин находился в Туапсе, мы поехали туда на электричке, и всю дорогу уже Ксанка развлекала нас, но больше меня, своей потешной речью и пением, — голос у нее был просто замечательный. Но иногда она обрывала песню и задавала мне очередной серьезный вопрос, на который, при всем желании, трудно, либо невозможно было ответить. Тогда она сидела задумчиво, глядя в себя, но возраст брал свое, и девочка снова становилась веселой и беспечной.
В магазине, который стоял прямо в морском порту, среди причальных сооружений и прижавшихся к ним пузатых танкеров, Ксанка вместе с мамой долго подбирала мне обновку — мы с ее отцом изнывали, ожидая, когда же кончится эта женская канитель с бесконечными разговорами и примерками. Маленькая хозяйка чуть ли не в свои руки взяла этот трудоемкий процесс — именно за ней было последнее слово в примерочной.
Наконец я был одет и обут согласно веяниям тогдашней моды: были приобретены тонкие и узкие вельветовые коричневые джинсы в обтяжку, кроссовки такого же цвета и «космическая» золотистая куртка, блиставшая на мне так, словно я только что прилетел на Землю из созвездия Кассиопеи.
На обратном пути моя Ксанка смотрела на «дядю» гордым и теплым взглядом — совсем как женщина на своего мужчину.
Три недели отпуска закончились для родственников быстро, но быстрее всего для меня. С вечера были собраны вещи, бабушка договорилась с соседом-армянином, владельцем новой коричневой «копейки», о поездке в Адлер, в аэропорт; я вызвался проводить их до аэровокзала.
Моя маленькая родственница крепко спала, когда все мы встали, включив свет только на веранде — за окнами еще чернела ночь. Мать стала надевать на Ксанку платье и босоножки, словно на куклу, поворачивая руки и ноги полусонной дочери в нужном направлении. Через мгновение она шепнула мне:
— Бери ее на руки, видишь, она спит на ходу!
Мы расселись в «Жигулях» каждый на своем месте: отец Ксанки рядом с водителем, мать на заднем сиденье, а я примостился тут же сбоку, держа на коленях снова заснувшую и сопевшую девчонку, родней которой в то раннее утро для меня не было никого.
Шофер наш оказался лихачом, он рванул с места и помчался по асфальтовой ленте дороги с такой энергией, что свет автомобильных фар скользил по деревьям в лихорадочной спешке.
Ксанка мирно посапывала, доверчиво обняв меня за шею, а я сидел как памятник, стараясь не шелохнуться, не потревожить неловким движением ее ровного сна. Я поддерживал ее спину и ноги в белых носочках и маленьких босоножках и желал только одного: чтобы путь наш к Адлеру продолжался как можно дольше.
Водитель гнал машину по пустынной извилистой дороге, Мамайскому спуску и последующему подъему почти с одинаковой бешеной скоростью, нас прижимало к дверям на лесных поворотах с такой силой, словно мы двигались не в «Жигулях», а летели в кабине реактивного истребителя.
Центральный Сочи еще спал, когда мы въехали на эстакаду его верхнего пути и понеслись по Виноградной улице, обозревая с немыслимой высоты многоэтажные дома Донского микрорайона. Крыши и стены домов уже окрашивались в золотисто-розовый цвет восходящего солнца, окна поблескивали, фиолетовые оттенки за вершинами гор исчезали и сменялись торжествующей небесной синью.
Ксанка перестала сопеть и еще сильнее прижалась ко мне, ее веки и ресницы подрагивали. В эти минуты я испытал необыкновенное чувство полета, моя душа летела в надмирной высоте, а сам я оберегал нежное маленькое тельце девочки так, как будто она была мне сразу и дочерью, и сестрой, и будущей возлюбленной. До самого Адлера я уже не жил, а существовал в каком-то ином измерении, где не было страха, горя, слез и страданий, а был только необычайный свет бесконечного и трепетного счастья. В те мгновения я единственный раз в жизни заглянул в приоткрытые двери рая…
В здании аэровокзала шуршал людской муравейник, по мелодичному сигналу следовали объявления о регистрации рейсов, кругом стояли чемоданы и сумки, мужчины их охраняли, а их вечно беспокойные половинки ходили кругами и глазели на витрины сувенирных киосков, мучительно соображая, все ли куплено в дальнюю дорогу. За стеклянными дрожащими окнами грохотали взлетающие самолеты, рев двигателей удалялся, и снова мягкий женский голос напоминал о посадке.
Нас закружила толпа и спешка неотложных дел, и наконец, подошла наша очередь. Надо было расставаться, но, Боже мой, как же я этого не хотел! Я нагнулся, чтобы обнять Ксанку, но она опередила и бросилась на шею сама, отчаянно меня поцеловав. В ее глазах стояли безмолвные слезы.
Самолет давно улетел, а я все стоял посреди огромного зала и чувствовал на губах отпечаток ее прощального поцелуя. Моя душа плакала, как будто от нее оторвали самое дорогое…
Никогда потом я не ощутил подобного взлета чувств. В них воскресли забытые однажды безмятежность и беспечность, удивительная сладость и покой, а еще безмерность, неподвластная человеческому разуму, но открытая любящему сердцу.
Что же это было?..
Жульё у моря
У нас с женой оказались на руках свободные деньги. Я продал хорошую машину, и вместе с отложенными на черный день получилась цифра, на которую можно было купить что-то весьма существенное, но что?
Все необходимое было уже приобретено, а сумма жгла руки, обесцениваясь, если верить телевизору, ежедневно и ежечасно.
В голову ничего не приходило, и я от нечего делать решил побродить по родным просторам компьютерной сети. Набрел на сайт «Недвижимость» и оторопел: там предлагались бесчисленные студии и квартиры ни где-нибудь, а в самом центре Сочи, и дешевле, чем в нашем северном городке! Рекламные баннеры зазывали: «Ищете недвижимость в Сочи? Слишком много информации? Сомневаетесь в выборе? – Звоните нам!»
Еще раз все перечитав и перепроверив, я восторжествовал: вот она, мечта, совсем рядом! Как говорится, «жизнь дается один раз, и прожить ее надо в Сочи!»
Получив благословение от супруги, я рванул в главный курорт страны и, купив в газетном киоске справочник, стал выбирать жилье в новостройках. Объявлений было так много, что разбегались глаза, — разобраться мог, пожалуй, только специалист. Пришлось звонить в риэлтерское агентство «Аксона» — его логотипами рекламная книжка была разукрашена вдоль и поперек.
Сотрудник откликнулся мгновенно и поставленной бодрой скороговоркой отрапортовал:
— Здравствуйте, с вами говорит Артем, риэлтор агентства «Аксона». Чем могу быть полезен?
— М-м-м. Мне бы хотелось подобрать небольшую студию или квартиру в центре Сочи на… я назвал заветную сумму.
В сотовом телефоне повисла пауза, затем Артем вздохнул и заметно упавшим голосом произнес:
— Могу предложить студии в районе Мацесты.
Что ж, Мацеста… Это тоже звучит гордо.
— Согласен посмотреть. Где мы встретимся?
— У Старой Мацесты. Как приедете, позвоните.
Легко сказать: позвоните! И где эта Старая Мацеста? Значит, есть еще и новая?
Методом «расспроса и переспроса» удалось выяснить, где эта местность находится, и каким автобусом туда можно добраться. Через сорок минут я оказался на конечной остановке среди развесистых ветвей, мусорных баков и пристроившейся к ним забегаловки с вывеской: «Шашлычок под коньячок».
На мой звонок Артем отозвался не сразу, попросил перезвонить позже. Я в полном одиночестве сидел на старой скамейке у таблички с расписанием, установленной на трубе, опорой которой служил массивный диск от отслужившего свое грузовика. Солнце палило нестерпимо. Через пять минут я зарылся в зарослях, вдыхая ароматы ветвей и бытовых отходов.
Повторный звонок достиг цели: риелтор попросил спуститься с горы к посту дорожной полиции, где он будет ждать меня в машине «Тойота» серого цвета.
«Это недалеко», — уточнил он.
Я стал широким шагом возвращаться назад по уже покоренному автобусом маршруту. Асфальтовые повороты сменяли друг друга, а полицейской будки все не было. Я стал терять терпение, но у самого подножья горы увидел, наконец, и полицейскую проходную, и серую японскую легковушку. Открыв дверь, я плюхнулся на заднее сиденье. Юноша, протянувший розовую ладонь для рукопожатия, оказался типичным представителем поколения мерчандайзеров, брокеров, менеджеров и подобных им риэлторов: в бежевых джинсах, белой рубашке, блестящих очках и в ауре самодовольства, как будто он не зарабатывал деньги, а делал одолжение. Хотя, наверное, мои дензнаки были не столь велики, чтобы вызвать подобострастие:
— Сейчас мы поедем к только что сданному дому, там есть студия в два раза больше, чем вы просили, двухуровневая за те же деньги. Думаю, это то, что вам нужно.
Я кивнул, и мы тронулись по ровной дороге в противоположную сторону от моря. В окне пробегали какие-то лачуги, среди них торчали многоэтажки, затем жилой район исчез, пошли густые зеленые кавказские леса, и через 15 минут мы припарковались у шестиэтажного дома посреди поселка, главной достопримечательностью которого был магазин «Магнит» на другой стороне трассы.
Пока мы поднимались на шестой этаж, я осматривал новостройку изнутри: все было каким-то сиротским, недостроенным, заляпанным краской. Лифт, к моему неудовольствию, отсутствовал, и когда мы вошли в пустую и неоштукатуренную студию причудливой формы, дышать стало тяжело, тем более что в крохотном помещении было жарко, как в сауне.
— А где же второй уровень? – удивился я, разглядев потолок из полиэтилена, подбитый деревянными необструганными досками.
— Там, наверху.
— А как туда попасть?
— Можно пробить отверстие и поставить лестницу.
Меня такой ответ не устроил:
— Как же мне посмотреть верхнюю часть?
Риэлтор, дрогнув, ответил:
— Можно попросить соседа.
Сорокалетний с виду сосед с красным перекошенным лицом как раз устанавливал железную дверь, напружинившись всем телом. Дождавшись конца этого действа, мы попросились к нему.
— Пожалуйста! – с усталой злостью он раскрыл скрипящую дверь, и мы втроем вошли в такую же студию, больше похожую на духовой шкаф.
— А почему так жарко? – спросил я.
— Дерево… Проклятый Сочи! Сто раз пожалел, что переехал сюда из Ставрополя. Здесь глушь, а цены в два раза выше. Надо было сидеть на попе ровно!
— Зато у моря, — неуверенно возразил риэлтор Артем.
— А где оно, это море? Дурак я, дурак! – возмущался и причитал сосед.
Я забрался по узкой самодельной лестнице на «второй уровень» — им оказался обыкновенный чердак с железной крышей и деревянными опорами. Верхнюю «студию» придется еще и отгораживать!
— Понятно, — сказал я таким тоном, спускаясь сверху, что Артем все сообразил, и мы почти побежали по лестнице к выходу.
Там нас встретила длинноногая девушка лет тридцати с выразительными и цепкими темными глазами – я сразу понял, что это еще один специалист по недвижимости.
— Ну как, вам понравилась квартира? – спросила она и взглянула на меня оценивающе.
— Нет.
— Почему?
— Нет лифта, да и вообще…
— А что вы хотите приобрести, и на какую сумму?
Я стал уныло перечислять приметы, оказавшиеся, вероятно, только мечтой.
— Вам нужна студия в центре? – оживилась девица.
— Да.
— Я знаю такую, на Донской улице, со статусом «квартира», это то, что вам нужно! – объявила она.
Мы все сели уже в другую машину, и я, разглядывая по дороге диковинные объездные туннели с ожерельями ламп и медленно вращающимися лопастями огромных вентиляторов, размышлял о нелегком пути к заветным квадратным метрам.
Мы взобрались на очередную гору и остановились около строящейся десятиэтажки. На стройплощадке работа кипела: подъезжали бетономешалки и бетононасосы, в пустых глазницах будущих окон шныряли гастарбайтеры в касках, стучали и гремели механизмы, взвивалась и оседала пыль.
Студия, и впрямь, оказалась почти полным воплощением моей мечты: 16-метровая, на первом этаже, с высоченным потолком, и главное, поразительно дешевая. Портил впечатление только вид из окна: склон, до которого можно было дотянуться рукой.
«Ничего, разобьем здесь клумбу и будем предаваться релаксации», — подумал я и, еле сдерживая радость, стал кивать головой, подтверждая согласие на сделку.
— Это последняя непроданная квартира в доме, — объяснила довольная риэлторша, — вам ее забронировать, под денежный залог?
Я согласился и на бронь, и на предварительный договор, и на все, что предлагали, — в моем воображении недостроенная коробка уже превращалась в уютное семейное гнездышко. Тут я вспомнил о супруге и встрепенулся:
— А если студия вдруг не понравится моей жене?
— Мы учтем это в предварительном договоре. Когда она приезжает?
— Через десять дней.
— Вот тогда и оформим все окончательно.
Я не заметил дороги в агентство недвижимости, так был взволнован.
Агентство находилось в самом престижном месте города, в торговой галерее. Называлось оно «Карат», и по богатству, действительно, могло соперничать с ювелирной фирмой: мраморные лестницы с золочеными перилами, широкие стеклянные двери, просторный холл с белой кожаной мебелью, приветливые молодые сотрудницы в одинаковой форме, дорогие низкие столики, на которых веером лежали буклеты и даже журнал «Карат» с подмигивающей Шараповой на обложке. « — Выбирай, не скупись!» — улыбчиво подбадривала теннисистка.
У меня взяли паспорт и попросили несколько минут подождать. Риэлторы Артем и Елена, — так звали черноглазую, — охраняли клиента, сидя с двух сторон в таких же мягких креслах.
Через десять минут у меня в руках уже был текст договора. Быстро пробежав глазами несколько печатных страниц с мелким шрифтом, я проверил свои данные, потом паспортные регалии продавца. К моему удивлению, продавцов оказалось трое: житель Дагестана, еще один гражданин Грузии и, по доверенности, гражданка России с грузинской фамилией…
— ???
Это для того, чтобы не платить лишние налоги, здесь все так делают, — успокоили меня Артем и Елена.
— Точно?
— Да-да, не пугайтесь, если что, у нас в штате есть свои профессиональные юристы.
Ответ впечатлил, и я со спокойной совестью поставил подпись под документом, отдав под залог несколько красных денежных купюр.
— Поздравляем, мы не сомневаемся, что вашей жене квартира понравится, — риэлторы явно были обрадованы. – Только, пожалуйста, дайте экземпляр договора, мы его сфотографируем для отчета.
Сообразив, что все прошедшие манипуляции были сделаны не за «бесплатно», я протянул свои сшитые и скрепленные печатью листы.
Я шел по торговой галерее и мысленно парил в эмпиреях: я уже почти сочинец! В пакете лежало драгоценное свидетельство успеха, и все вокруг казалось таким ярким и счастливым: и сверкающие витрины, и гуляющие отдыхающие, и даже озабоченные продавцы. Я не утерпел, достал сотовый и стал хвастаться жене, на все лады расхваливая и студию, и дом, и место, где он стоял, и предупредительных риэлторов, и достойное агентство «Карат», и все-все-все!
Жена меня поддержала, и дальнейший путь казался близким и таким же счастливым.
Но вдруг какой-то холодок тронул мое сердце – душу стали «терзать смутные сомнения»… Продавцы из Дагестана и Грузии, «свои» юристы, дешевая квартира… Я нашел свободную скамейку, сел и, наконец, прочел договор внимательно и не спеша. Так… «Покупатель обязуется в будущем купить и принять в собственность квартиру во второй половине следующего года»… Почему во второй? Они же говорили, что в первой… Дальше… «Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, например, землетрясение, наводнение, смерч, пожар и другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, массовые беспорядки, забастовки, запрещения, решения органов власти»… А если решения государством будут приняты?.. Сердце ухнуло вниз и заколотилось… «Помещение без внутренней отделки, с подведенными к нему электричеством, канализацией, холодной водой и газом»… Это что, трубы, батареи и котел устанавливать самому?.. Нервная судорога пробежала по телу. Я поднялся и стал ходить взад-вперед, лихорадочно соображая, что же делать.
«Свои юристы»… Нет, к ним соваться нельзя, надо искать человека со стороны. Схватив пакет, я большими шагами стал двигаться по улице, читая вывески слева и справа… «Независимое юридическое агентство»… Отлично! Проскочив несколько ступенек ввысь, я оказался на третьем этаже, у кабинета нотариуса. Постучал и вошел в простенькое помещение со столом и компьютером, у которого сидел молодой человек в темных брюках и в белой рубашке, но совсем не похожий на ровесников – в его лице просматривалось редко встречающееся сейчас деловое спокойствие.
Мы поздоровались, я достал из пакета договор и, путаясь в терминах, стал объяснять, в чем заключается мое дело.
Юрист, терпеливо выслушав дилетантскую речь, стал по абзацам проверять текст.
— Здесь нет точной даты передачи квартиры в собственность, — сказал он.
— И что это означает?
— Квартира будет построена, а документы на нее придут, если придут, через два-три года, а то и пять. Сходите или позвоните в агентство, выясните точную дату.
— Хорошо, я позвоню, — я совсем скис.
Нотариус поднял на меня все понимающие глаза:
— Вам предъявили хотя бы копии разрешения на строительство и кадастрового паспорта?
— Нет, а это важно?
— Дело в том, что в Сочи разрешение на индивидуальное жилищное строительство дается только на три этажа, а строят, кто пять, а кто и десять-двенадцать. Потом по суду все это ломают. Таких домов сейчас в городе свыше тысячи. Здесь так часто делается, много сомнительных фирм.
— А «Карат»?.. Это надежное агентство?
Молодой юрист помолчал и продолжил:
— Сходите в кадастровую палату, возьмите копии паспортов на дом и на землю, тогда и решайте.
Узнав адрес, я спросил:
— Сколько с меня?
— Нисколько. Консультации я даю совершенно бесплатно.
Потрясенный, я искренне и сильно пожал руку настоящему юристу и побежал по улице Навагинской к палате, в которой лежали ответы на мои самые больные и горячие вопросы. В окошке приняли квитанции, проверили паспорт и сообщили, что справки будут готовы через десять дней… «Как раз к приезду жены!» — поразился я.
Оставшиеся дни текли медленно, как речка за окном частной гостиницы, где я остановился. Воспоминания и размышления о происшедшем все более убеждали в том, что я влип, и влип основательно. «Квартиры точно не видать, да и залог не вернут, — мыслил я, — и что скажет жена?..» Картина скандала терзала сильнее всего остального.
Дождавшись даты, я ранним утром уже стоял у кабинета № 12-б сочинской кадастровой палаты. Предчувствия меня не обманули: разрешение на строительство было выдано только на три этажа, а земля и вовсе оказалась под арестом! Дальнейшие мои мытарства в агентстве «Карат» лучше не описывать – и сотрудники, и реакция на отказ от договора, и даже стены, переставшие блестеть, — все уже не казалось таким цивильным, как прежде. Правда, мне удалось выцыганить залог, но с каким боем!
Жену я встретил вечером, рассказал, как все было, и мы, погоревав немного, прыгнули в море – смыть мой позор.
Когда короткий отпуск закончился, мы сели в такси и поехали в аэропорт. «Деньги пригодятся и так, все в кризис дорожает, а часть суммы отнесу в храм», — думал я, посматривая на наезжавшие по сторонам рекламные щиты.
«Сдается жилье у моря! — зазывно кричали надписи. – Покупайте жилье у моря!»
Ну-ну…
Легкий характер
В желтом «пазике», больше похожем на душегубку, мы с моим другом Павлом спускались из сочинской горной деревушки к морю. Лицо Павла было похоже на мокрый апельсин, — от жары и духоты он постоянно вытирал его вспотевшей рукой, а я, сжавшись от противно прильнувшей к телу футболки, терпеливо ждал конца пути и рассматривал водительские объявления на покатой крыше автобуса. Среди них выделялось следующее: «Уважаемые пассажиры! Остановок «Масква» и «Ж.Д. Вокзал» на нашем маршруте НЕТ!»
— А не хлебнуть ли нам холодного пивка? – предложил я остывающему после дороги тонкому и интеллигентному Павлу, когда мы, наконец, очутились на краю пылающего под солнцем асфальта.
Он согласился, молча кивнув своей светлой во всех отношениях головой, и мы двинулись по направлению к тенистому кафе «Лолита», напротив которого лысый, худой и небритый армянин продавал на перевернутом ящике свой «вареный кукуруз».
Заказав пару кружек чешского пива и тарелку соленых сушек, мы наслаждались прохладой навеса и лениво поглядывали на ослепительно-голубое море и проходивших мимо отдыхающих. Наше внимание привлекла молодая девушка в коротких шортах, — ее длинные и пока еще не сгоревшие ноги были почти идеальны.
— Скучно без женщин, — вздохнул Павел, провожая грустным и туманным взглядом удаляющуюся фигуру. – Зря мы решили отдохнуть сами.
— Да ну их, с ними одно беспокойство, — возразил я. – Обойдемся.
— Как сказать, однажды из-за такой я чуть не убил человека, — вздохнув, произнес он, продолжая сидеть в печально-мечтательной позе.
— Ты?! Вот уж не поверю!
— Я и сам уже почти не верю, — упавшим голосом добавил Павел, подперев рукой подбородок.
— Так, — я поставил свое пиво на стол. – Делись, Павел Александрович, раз начал.
— Что ж, если тебе это интересно…
— Давай, не тяни!
Павел опустил руку, сделал осторожный глоток из холодной стеклянной кружки и откинулся на деревянную спинку скамьи…
Случилось это десять лет назад. Я влюбился в нее сразу, как только увидел, — и забыл и свой прежний неудачный опыт, и свои мечты, — они все воплотились в ней, так она была безукоризненна и прекрасна.
Среднего роста, изящная, с лицом овальной формы, на котором выделялись карие глаза с тонкими бровями… Губы ее были одинаково ровными сверху и снизу и в меру пухлыми; маленький носик придавал ее облику несколько игривый вид, да и сама она была веселой, смешливой девушкой, как говорится, с легким характером.
Простая и совсем не утомительная в общении со мной, она преображалась в присутствии другого мужчины – глаза ее становились узкими, в них появлялся оценивающий хищный блеск, и вся ее гибкая фигура каким-то непостижимым образом неуловимо сжималась, словно пружина, в ней что-то менялось, да так, что взгляд отвести было невозможно – у мужчин начинали дрожать ноздри, мозг и рассудок отключались, а в глазах оставалось только одно: стремление, желание и упоение.
В маленьком северном городке, где церквей было чуть ли не больше, чем жителей, мы работали вместе в одной организации, звали ее… впрочем, какое это имеет значение.
Павел взял было сушку, но тут же бросил ее обратно в тарелку.
Мы сошлись почти сразу. Месяц я следовал за ней всюду, глядя восхищенными глазами, а потом стал приходить в ее квартиру, где она жила одна после развода родителей. Я опускался на стул, она садилась мне на колени, и мы долго целовались, лишь изредка отстраняясь друг от друга, чтобы отдышаться. Однажды мы распалились так, что у меня выступили на лбу капельки пота, а у нее перехватило дыхание. Мы с трудом оторвались друг от друга, — я остался сидеть на стуле около письменного стола, а моя желанная, усевшись на диване, положив ногу на ногу и глядя на меня влажными глазами-бусинками, стала весело вспоминать о своем прошлом, будто ничего особенного и не происходило. Как бы невзначай она упомянула, что в ее судьбе были мужчины, но своего суженого она пока не встретила… Я набросился на нее так стремительно, что забыл снять галстук, — диван с грохотом разложился и превратился в кровать.
— А я думала, что ты еще невинный, — томно-разочарованно сказала она, когда все кончилось, и мы лежали среди разбросанных сорочек.
Мне было уже все равно, кто она, и кто я – с этого вечера я хотел только одного: обладать ею как можно чаще, где угодно и как угодно.
Мы делали это при самой первой возможности: в доме ее отца, пока он колол дрова во дворе; на работе, если находился свободный закуток, и никто не мог нам помешать; в доме отдыха, куда наш коллектив выехал на один день, — и весь этот день мы безуспешно и отчаянно искали место для любовной встречи. Наконец, я нашел какой-то заброшенный сарай, и мы, закрыв его изнутри, стали срывать с себя одежду… Когда возвращались обратно к общему корпусу, она вдруг остановила меня, бросилась на шею, с силой прильнула к губам, и лишь через несколько минут освободила от поцелуя:
— Как хорошо! Ты молодец, я уже начинала закипать и беситься… Как, все-таки, хорошо! — Она смотрела на меня с усталым восторгом утоленной страсти.
В квартире ее матери я, правда, не решился на это… — Павел, хлебнув пива, закашлялся и, раздраженно отодвинув от себя ополовиненную кружку, продолжил…
Мы пришли в гости не просто так – она знакомила меня с родными. Разговор наш затянулся до позднего вечера, и меня уложили спать в гостиной. Мать и ее новый муж ушли в свою спальню, а она – в свою. Я так и не смог уснуть почти до самого рассвета – мне невыносимо хотелось идти к ней, но я стеснялся ее родственников.
— Что же ты не пришел? – укорила она меня утром. – Я ждала.
— А твои? Они же могли все услышать.
— Ерунда, двери плотные, да и они все понимают, не маленькие. – Она была явно разочарована моей нерешительностью.
Павел остановился и о чем-то задумался.
— И сколько это безумие продолжалось? – спросил я.
— Ты прав, это было безумие, удар, звериная неистовость. Эта женщина была неистощима в своих любовных затеях. Мы оба наслаждались друг другом, но ведущей была она, и, вроде бы, не оставалось ничего такого, что мы еще не испытали, но новое, еще более бесстыдное, обязательно находилось. Я полгода жил в сладостном забытьи, но никак не мог насытиться ею.
Все разрушилось в один день. Моя ненаглядная возвратилась из поездки в Москву вся в слезах – оказывается, билетов на поезд не осталось, и она попросилась к проводнику, молодому парню, на верхнюю полку его купе:
— Ночью он стал ко мне приставать, я сопротивлялась, но не смогла… — Она горько заплакала передо мной.
— Как его звали, номер поезда?! – я был в бешенстве.
Узнав его имя и номер состава, я рванул в справочную и выяснил, что этот скорый возвратится в столицу через сутки.
На следующий день я уже поджидал обидчика на Ярославском вокзале с тяжелым гаечным ключом в кармане. Во мне все было напряжено, меня разрывало от ненависти. Но знаешь, удивительное дело – в этом чувстве присутствовало еще и какое-то особое наслаждение!..
Я ходил по перронам, уворачиваясь от пассажиров с поклажей, и сладострастно представлял, как буду расправляться с насильником. Я даже не ел и не пил – чувство мести питало меня изнутри.
— А потом ты успокоился, вспомнил о человечности, милосердии и передумал? – с усмешкой перебил я.
— Ничего подобного! – возмутился Павел. – Он даже слегка стукнул по столу: — Этого проводника просто перебросили на другой поезд, мне так и не сказали, на какой – ссылались на профессиональную тайну. Как ни старался, ничего выяснить я не смог и вернулся домой несолоно хлебавши.
Мы продолжали встречаться, но совместная страсть увядала – может быть, она посчитала меня недостаточно мужественным, а может, из-за моей подозрительности – я стал о чем-то догадываться и изнывать от ревности.
В конце концов, все закончилось разрывом, тихим и мирным. Я освободился от дурмана, нашел себе чистую, милую девушку, — ты знаешь, что я женат, — а спустя год в командировке услышал разговор ребят из нашего отдела, и я, ничем себя не выдав, узнал, что моя бывшая, оказывается, задолго до меня оделила своей благосклонностью, — тут Павла даже передернуло, — практически всех.
Теперь я ни о чем не жалею. Впрочем…
Тут Павел осекся и помрачнел. Он глядел себе под ноги, как будто проваливаясь мысленно в прошлое.
— Впрочем, — повторил он, – я все-таки жалею.
— О чем?
— О том, что не пришел тогда к ней, в спальню. Не могу простить себе этого до сих пор…
Он поднял взгляд, наполненный такой тоской, от которой меня опалило жаром и холодом одновременно.
Мы молчали. Солнце клонилось к горизонту, жара спадала, пиво было выпито, сушки съедены, но к морю идти почему-то не хотелось.

 0
0  93
93