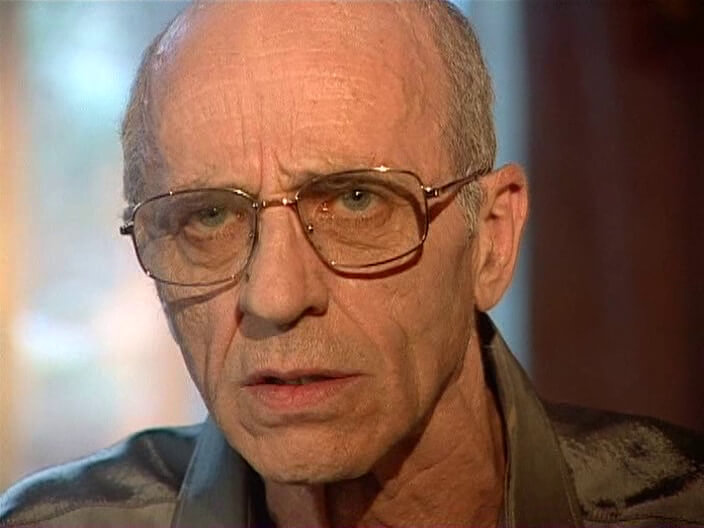— Пушкинская комиссия что из себя представляет?
— Пушкинская комиссия ИМЛИ — это неформальное подразделение при нашем институте, которое по существу — постоянно действующая Пушкинская конференция в Москве. Притом не собственно московская, но общероссийская и международная. Докладчики приезжают к нам из разных городов мира. Существует комиссия вот уже 20 лет, и на ней сделано и обсуждено около 300 докладов (часть напечатана в наших институтских сборниках «Московский пушкинист»).
— Вот я шел сейчас к вам и в вестибюле ИМЛИ увидел объявление: «Заседание Пушкинской комиссии. Слово «Бог» в «Капитанской дочке». Неужели в творчестве Пушкина что-то еще осталось неизученным? Неужели еще возможны открытия?
— А как же! Вот, например, после упомянутого вами доклада с его простодушным названием завязался интереснейший разговор не только о России XVIII века, но и о русской ментальности вообще, а ведь как это важно сегодня! Да, конечно, неясен целый ряд подробностей биографии Пушкина, неизвестны какие-то письма его и к нему, а все это может иметь отношение к самому главному — его творчеству. Но фактология — такая вещь, которая никогда не может быть прощупана «до конца». И вот одна из самых мучительных для нас проблем — датировка многих пушкинских текстов, порой очень важных. Это мучительная работа, потому что мы в ИМЛИ составляем новое, совершенно небывалое Собрание сочинений Пушкина: в нем произведения размещаются не так, будто в хранилище на полках (лирика отдельно, поэмы отдельно, проза, драмы и пр. — все по отдельности), а в том хронологическом порядке, в каком произведения создавались. В результате творчество Пушкина, его путь предстанут как живой процесс, словно идущий на наших глазах, и это позволит ответить на множество вопросов, многое по-новому понять.
— А есть ли в пушкинистике вечные вопросы?
— Настоящая, великая литература только и занимается «вечными вопросами» (они же — «детские вопросы»): что такое жизнь, смерть, добро, зло, любовь, наконец, главное: что такое человек. Проблема человека, проблема соотношения в нем предназначения и реального его существования — вещь бездонная. Валерий Брюсов сказал, что Пушкин похож на реку с необычайно прозрачной водой, сквозь которую дно кажется совсем близким, а на самом деле там страшная глубина. Простота Пушкина и есть его бездонность; и главная его тема — именно проблема человека. Возьмите хоть стихотворение «Я вас любил…», написанное самыми простыми словами, хоть поэму «Медный всадник», вещь, изученную вроде бы вдоль и поперек; там такая бездна, такое сплетение смыслов…
— Проблематика «Медного всадника» действительно многослойна. И на каждом витке российской истории что-то в этой поэме приобретает для современников особую актуальность, а что-то отступает на второй план. Вот, скажем, сегодня нас может интересовать, как Пушкин относился к петровским преобразованиям. Из «Медного всадника» это можно понять?
— Можно. Пушкин сознавал величие Петра и со временем хотел написать его историю. Мало того, сам государь заказал ему такой труд. И Пушкин очень увлекся темой, буквально вцепился в нее. В одном из писем он сообщает: «Скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок». Но чем дальше он углублялся в историю Петра, тем страшнее ему становилось. И вылился медный памятник, но совершенно иной. Вылился «Медный всадник» — очень страшная вещь. В ней величие Петра — такое величие, которое сверхчеловечно, может быть, даже внечеловечно. Медного всадника никуда не «перетаскивают» — он сам скачет, чтобы раздавить человека (хотя происходит это не наяву, а в помутневшем разуме Евгения). Понимая величие царя-реформатора, Пушкин в то же время понимал, что этот «первый большевик» (так скажет потом М. Волошин) решил Россию, что называется, через коленку переломить, силой «поменять менталитет» народа (о чем нынче мечтают некоторые наши деятели). Было немало толкований «идеи» этой поэмы: «власть и народ», торжество «общего» над «частным» и т.д. Но есть еще один смысл, на сегодня, по-моему, самый актуальный, а именно — страшная «обратная» сторона того, что называется цивилизацией, каковая призвана вроде бы улучшать условия существования человека, но при этом самого-то человека уродует, изничтожая в нем человеческое.
— Еще один сегодняшний вопрос: Пушкин был либералом в европейском значении этого слова?
— Ну, это вещь общеизвестная. Пушкин с молодости был воспитан в духе западного рационализма, просвещения, вольтерьянства, атеизма и т.п. И в этой духовной атмосфере он чувствовал себя как рыба в воде. Но вот его стихотворение «Безверие», написанное в 1817 году по экзаменационному заданию (требовалось описать, как несчастен неверующий человек, или обличить его), с такой искренностью передает муки безверия, что переведи его в прозу, немного поменяй строй речи, и получится прекрасная церковная проповедь.
— Дружба Пушкина с декабристами — тоже свидетельство его либеральных воззрений?
— Да нет, дружба у него всегда основывалась только на человеческих симпатиях, идеология тут была ни при чем. Просто и он, и они воспитывались в одном духе — либеральном. Но ему было свойственно много и независимо думать. И вот, живя в Михайловском, среди народа, с декабристами он начал расходиться во мнениях очень скоро — нисколько не жертвуя при этом чувством дружбы. А после «Бориса Годунова», оконченного в 1825 году, как раз к 7 ноября (правда, по старому стилю), он уже монархист. Но не «кондовый»: просто он утвердился в том, что монархия — оптимальный для России способ правления. «Демократическую» Америку Пушкин презирал. Вяземский называл его «либеральным консерватором».
— Вы тоже, насколько я понимаю, завязали с либерализмом.
— Да я, в сущности, либералом никогда и не был. Был обычный советский человек. Родители — совершенно советские люди, так сказать, «честные коммунисты». Отец в сорок первом ушел добровольцем на фронт, мама долгие годы была секретарем парторганизации. В конце пятидесятых я окончил классическое отделение филфака МГУ (греческий, латынь), а работать стал в фабричной многотиражке, куда меня устроил отец-журналист. В то время, после смерти Сталина и ХХ съезда партии, в среде думающей интеллигенции распространялось мнение, что «порядочные люди должны идти в партию». И когда мне начальство фабрики велело вступать в партию (как «работнику идеологического фронта»), я, не задумываясь, пошел. Потом оказался в «Литературной газете», в литературной среде, много думал о том, что происходит в литературе, в стране, и во мне рос какой-то протест. И постепенно я стал воспринимать свою «партийность» с тоской, будто не в своей тарелке сижу, будто у меня путы на ногах…
— А кончилось тем, что вас из партии исключили.
— Да, в 68-м году. За письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова, выпустивших «Белую книгу» о «процессе Синявского и Даниэля».
— Это знаменитое письмо — ваших рук дело?
— Моих. До этого мне не раз предлагали подписать письма протеста, но они мне все не нравились.
— Чем же?
— А вот этим своим либерально-крикливым, истеричным тоном, дурным вкусом. Но я же был и всерьез возмущен тем, что людей много месяцев противозаконно держат в заключении. В общем, я сел и написал свое письмо — спокойное, я бы сказал толерантное, основанное только на публикациях нашей прессы, а не на сообщениях «вражеских голосов». И под этим письмом подписались двадцать пять человек — от Паустовского и Каверина до Максимова и Войновича, его потом так и стали называть «писательским». А вот Юрий Карякин отказался подписать: «Знаешь, если либералы придут к власти, они во многом будут похлеще, чем большевики», — как в воду глядел… Ну, так или иначе, это спокойное письмо вызвало в «верхах» самую отчаянную злобу. Меня быстро взяли за шиворот и протащили по всем ступенькам лестницы допросов, дознаний, угроз…
— Вами занимался КГБ или это было партийное разбирательство?
— Партийное. Была даже должность такая — партследователь. Началось с разговора в редакции журнала «Вопросы литературы», где я в ту пору работал. Ну а дальше райком, горком, обком… я тогда насчитал двенадцать или пятнадцать разных ступенек. Но я стоял, как вкопанный в землю столб.
— Вас потом с работы не погнали?
— Представьте себе, нет. Главным редактором «Вопросов литературы» был Виталий Михайлович Озеров — писатель и критик насквозь партийный, но человек очень порядочный. Он меня просто понизил в должности: я был завотделом, а сделался младшим редактором. И вместо 230 рублей стал получать 110. И кроме того, мне на год запретили выступать по радио, публиковаться в печатных изданиях. Плюс к тому я лишился возможности издать книгу о сказках Пушкина. И за это я благодарю Бога. Потому что если бы книга вышла в том виде, в каком была написана в 68-м году, мне потом было бы стыдно.
— Неужто образы Попа и его работника Балды там трактовались с классовых позиций?
— Да нет, такого у меня быть не могло. Там было много хорошего, прочувствованного, верного, но в целом я тогда, видно, до темы не дорос, до настоящей глубины не достал. Позже я эту книжку написал заново, теперь она считается одной из лучших на эту тему: я даже слышал ее определение как «классической» — во как!
— Где-то вы сказали, что ваш метод исследования пушкинской поэзии включает в себя, помимо прочего, еще и публичное чтение стихов. Объясните, почему вам без этого трудно обходиться.
— Дело не в публичности. Мне для понимания пушкинских строк требуется их произнесение, a не просто чтение глазами. Стихи — идеальное проявление языка. А русский язык — самый гибкий, самый выразительный. У нас огромную роль играет интонационная музыка. Причем музыка не только в фоническом значении, но и в смысловом. И это всегда меня пленяло в русском языке. Тут большую роль сыграла моя мама, которая мне читала «Медного всадника» на ночь. Я с пяти лет помню эту поэму наизусть. Так вот, в самой музыке стиха таится смысл. Я как-то размышлял над стихотворением «Послание в Сибирь» («Во глубине сибирских руд…»). И вдруг последнюю строчку я прочел не так, как ее обычно читают. Не «и братья меч вам отдадут», а — «и братья меч вам отдадут». Отдадут — значит, вернут обратно то, что взяли. А что было взято у декабристов? У них отняли шпаги и сломали. Их лишили чести дворянской. У них отобрали дворянство. И вот оказалось, что стихотворение это — не революционная прокламация, как считалось, а намек на возможную в будущем амнистию, надежду на которую Пушкин вынес из своего разговора с Николаем I после возвращения из ссылки. В результате получилась большая статья «История одного послания». Или вот «Евгений Онегин». Его невозможно понять по-настоящему, читая глазами. Там половина смысла — в интонации, а ее подсказывает чуткому уху сам пушкинский стих.
— Впервые ваше имя широко прогремело в 1965 году. Известность вам принесла статья «Двадцать строк». С подзаголовком: «Пушкин в последние годы жизни и стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Скажите, чем эта статья так зацепила тогдашнюю читательскую публику?
— Статья была молодая, романтическая, задиристая, со скрытыми шпильками на тему отношения власти к писателям, да еще с дуновениями неосознанной религиозности. А главное — Пушкин был в ней не «классик»-идол, а живой и страдающий человек. В ней же возникло и зерно моего метода: через одно произведение «просматривается» едва ли не весь Пушкин — его жизнь, большой контекст его творчества.
— В те времена литературоведческая статья могла стать бестселлером. Сильнейшее влияние на умы производили, к примеру, «новомирские» публикации Владимира Лакшина о русских классиках. Потому что в произведениях Пушкина, Толстого, Чехова автор «вычитывал» и проклятые вопросы современной жизни, и делал это остро, с публицистическим темпераментом. Такое литературоведение ныне отошло в область предания. Как думаете, почему?
— Думаю, потому, что и сама литература перестала быть тем, чем она раньше была, когда учила мыслить и страдать. Теперь ей отведена роль служанки, источника развлечений. Я не раз напоминал, что по программе Геббельса покоренным народам полагалось только развлекательное искусство. Культура как духовное возделывание человеческой души (культура по-латыни и есть «возделывание») теперь прислуживает цивилизации — устроению удобств житейского быта. Это страшней, чем всякие преследования и запреты. Начальника, цензора можно было иногда обойти, обмануть, можно было найти другой способ высказаться; а деньги — это такой цензор, которого не обойдешь и не обманешь. Это счастье, что среди большевиков попадались люди, выросшие на великой классике XIX века, на прежней системе ценностей, — может, благодаря этому вся русская литература не была запрещена, как был запрещен Достоевский. Если бы это случилось, еще неизвестно, как и чем закончилась бы Великая Отечественная война. Ведь дух нашего народа формировался и укреплялся Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Гоголем, Тургеневым…
— А может, это хорошо, что литература у нас наконец перестала быть общественной кафедрой? Общественной кафедрой литература, так же как и театр, становится только в условиях несвободы. Так, наверное, стоит порадоваться тому, что литература в России теперь не больше, чем литература, поэт — не больше, чем поэт?
— Чему тут радоваться? Для других стран такое положение литературы, может, и не беда; для России это национальная катастрофа. Русская литература по природе своей была проповедником высоких человеческих идеалов, а мы такие люди, что, вдохновляясь высоким идеалом, можем совершать чудеса. А под знаменем рынка… Помню, как в начале девяностых русскую литературу обвиняли во всех наших бедах. Она, мол, виновата в революции, виновата во всем… Появилось ироническое определение: «так называемая великая русская литература». А обращенные к Толстому знаменитые слова Тургенева «великий писатель Земли Русской» были остроумно заменены на ВПЗР. Под знаменем «деидеологизации» (помню, с каким трудом Борис Николаевич Ельцин выговаривал это слово) рыночные понятия стали активно внедряться в массовое сознание, диктовать идеи и идеалы, и в конце концов сам рынок превратился в идеологию, а культура-служение — в культуру-обслугу.
— Вы считаете, рыночная идеология чужда русскому сознанию, отторгается им?
— Надо различать рынок как орудие житейского устроения и рынок как идеологию: это совсем разные вещи. Рынок как орудие был всегда, это и из евангельских притч ясно: Христос пользовался в них примерами рыночных отношений. Еда необходима для жизнедеятельности человека, но если на интересах еды построить все человеческие отношения, они перестанут быть человеческими, превратятся в животные. Примерно то же и с рынком. Когда выгода, прибыль становятся основой идеологии, определяют систему ценностей общества, общество превращается в стадо — либо дикое, хищное, либо тупо-конформистское. Рынок в России был всегда (советское время — случай особый): без обмена услугами общество немыслимо. Но рынок никогда не был у нас точкой отсчета человеческих ценностей. Вспомним А.Н. Островского, одного из современнейших сейчас классиков: во всех этих его толстосумах и хищниках, в глубине души каждого рано или поздно обнаруживается человек. А тема денег… Она в нашей литературе присутствовала, но почти всегда — с оттенком какой-то душевной тяжести, трагизма и… я бы сказал, стыдноватости, что ли… Ведь наша иерархия ценностей складывалась веками как именно духовная, и за века это устоялось. У нас духовное выше материального.
У нас идеалы выше интересов. У нас нравственность выше прагматики. У нас совесть выше корысти. Эти очень простые вещи всегда были краеугольными камнями русского сознания. Другое дело, что русский человек в своих реальных проявлениях мог быть ужасен, но при этом он понимал, что ужасен. Как сказал Достоевский: русский человек много безобразничает, но он всегда знает, что именно безобразничает. То есть знает границу между добром и злом и не путает первое со вторым. Мы в своих поступках гораздо хуже своей системы ценностей, но она — лучшая в мире. Центральный пункт западного (в первую очередь американского) мировоззрения — улучшение «качества жизни»: как жить еще лучше. Для нас всегда было важно не «как жить», а «для чего жить», в чем смысл моей жизни. Это ставит нас в тяжелое положение: идеалы Руси всегда были, по словам Д.С. Лихачева, «слишком высоки», порой осознавались как недостижимые — от этого русский человек и пил, и безобразничал. Но эти же идеалы создали нас как великую нацию, которая ни на кого не похожа, которая не раз то удивляла, то возмущала, то восхищала весь мир. Когда много лет назад в Гватемалу после огромного стихийного бедствия съехались спасатели из разных стран, большинство их с наступлением пяти или шести часов застегивали рукава и шли отдыхать: рабочий день был кончен. А наши продолжали работать дотемна. Наши идеалы породили и неслыханного величия культуру, в том числе литературу, которую Томас Манн назвал «святой». А теперь вся система наших ценностей выворачивается наизнанку.
— Вам некомфортно в нынешней культурной ситуации?
— Я живу в чужом времени. И порой у меня, как писал Пушкин жене, «кровь в желчь превращается». Потому что невыносимо видеть плебеизацию русской культуры, которая, включая и народную культуру, всегда была внутренне аристократична. Недаром Бунин говорил, что русский мужик всегда чем-то похож на дворянина, а русский барин на мужика. Но вот недавно один деятель литературы изрек: «Народ — понятие мифологическое». Что-то подобное я уже слышал в девяностых годах, когда кто-то из приглашенных на радио философов заявил: «Истинность и ценность — понятия мифологические. На самом деле существуют лишь цели и способы их достижения». Чисто животная «философия». В такой атмосфере не может родиться ничто великое, в том числе в литературе. Людей настойчиво приучают к глянцевой мерзости, которой переполнены все ларьки, киоски, магазины, и неглянцевой тоже.
— Вы думаете, кто-то осознанно и целенаправленно истребляет в народе тягу к разумному, доброму, вечному?
— Скажу честно — не знаю. Просто, думаю, это делают люди с другим кругозором, с совсем иными представлениями о ценностях, о добре и зле. Одним словом — «прагматики», то есть те, для кого главная «ценность» — выгода, и поскорее. Но Россия — страна Пушкина, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Платонова, Белова, Солженицына, Твардовского, Астафьева, — не может жить «прагматикой», истинность и ценность для нее не мифологические понятия. Но сегодня ей усердно навязывают «прагматическую» идеологию. Посмотрите на так называемую «реформу образования» с ее тупой, издевательской лотереей ЕГЭ вместо экзамена, с введением «болонской системы», в которой основательность и широта образования приносятся в жертву узкой специализации, наконец — с самым чудовищным: с выведением русской литературы из категории базовых предметов. Последнее — повторю еще и еще раз — это крупнейшее преступление против народа, против каждого человека, особенно молодого, убийственный удар по нашему менталитету, по нашей системе ценностей, по России, по ее будущему. Ведь свойство «прагматиков» — не уметь и не желать видеть дальше своего носа. И если «реформа образования» в таком ее виде осуществится, через три-четыре десятка лет в России появится другое население. Оно будет состоять из грамотных потребителей, прагматичных невежд и талантливых бандитов. Это будет уже другая страна: Россия, из которой вынули душу. Вот что сейчас не дает мне покоя.
 07.07.2017
07.07.2017 
 1
1  191
191